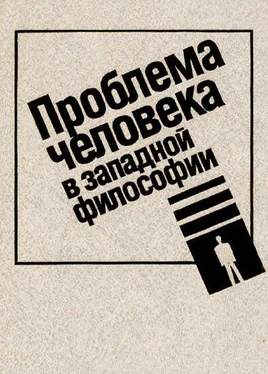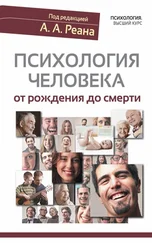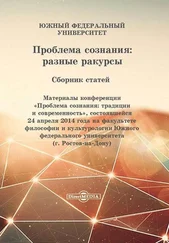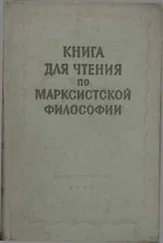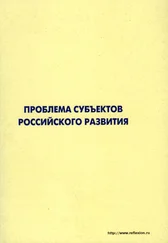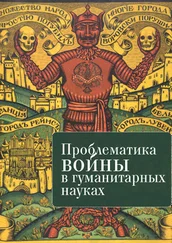См. статью Хайдеггера «Что называется мышлением?» (первая публикация: Merkur, München, 1952, № 6, S. 601–611) и одноименную книгу лекций (Heidegger М. Was heißt Denken. Tübingen: Niemeyer, 1954), начинающуюся словами: «В то, что называется мышлением, мы попадаем, когда беремся думать сами. Чтобы подобная попытка удалась, мы должны быть готовы учиться мысли».
Т. е. акт представления (устанавливания) предшествует поляризации представляющего и представляемого.
Т. е. сущность ratio исторична: основа новоевропейского рационализма — проект глобального удостоверения опредмечиваемой данности, не наоборот.
Т. е. в тезисе cogito ergo sum существование (бытие) не выводится из акта представления, а отождествляется с ним: тезис есть манифест, провозглашающий, как отныне новоевропейская мысль будет понимать бытие.
Т. е. бытие становится сертификатом, который выдается предмету, удостоверенному деятельностью представления.
См.: Хайдеггер М. Вопрос о технике (в сб.: Новая технократическая волна на Западе. М.: Прогресс, 1986, с. 53–54): «Человек… сам уже вовлечен в извлечение природных энергий. Если человек вовлечен в это, поставлен на это, то не принадлежит ли и человек — еще изначальнее, чем природа, — к состоящему-в-наличии? Привычность таких выражений, как „человеческий материал“, как „личный состав“ какого-либо учреждения, говорит об этом…» Ср.: Хайдеггер М. Наука и осмысление (там же, с. 78): «Субъект-объектное отношение… становится подлежащей поставлению наличностью».
Т. е. планетарная техника требует себе такого «человечества», которое готово расходовать себя как материал для выполнения своих проектов. «Постай» (установка, заставляющая человека «выводить действительное из его потаенности способом поставлен и я его как состоящего в наличии», см. «Вопрос о технике», с. 55) мобилизует массы, как декартовское «когито» мобилизовало человеческое Я, сделав его субъектом, «подкладкой» деятельности обеспечивающе-удостоверяющего устанавливания.
См. выше с. 233и прим. 176.
Die Seiendheit des Seienden, букв, «то, что придает сущему его характер сущего».
Здесь высказана суть хайдеггеровского традиционализма: верность делу прежних мыслителей требует не согласия, а спора с ними в усилии яснее вглядеться в то самое, что они пытались увидеть.
Хайдеггер называет прошлый век «самым темным веком» европейской истории из-за утраты, после Гегеля и Шеллинга, навыка сущностной мысли, которую исподволь вытеснили технические приемы позитивизма и историзма.
См.: Аристотель, «Физика» II 1, 193 а 3–6: «Пытаться доказывать, что природа существует, смешно… Доказывать очевидное из неочевидного свойственно человеку, не способному различать, что известно само по себе и что не само по себе» (пер. В.П. Карпова).
См.: Ницше Ф. Воля к власти, § 12 В: «Все ценности, посредством которых до сих пор мы пытались сделать мир ценным для нас, а в конце концов именно этим самым обесценили его, когда они оказались неприложимыми, — все эти ценности, в психологическом пересчете, суть результаты определенных перспектив их полезности для поддержания и усиления образований человеческого господства, и лишь ложно спроецированы в сущность вещей» (цит. по: Работы Хайдеггера по культурологии…, с. 58, перевод наш. — В.Б. ). Комментарий Хайдеггера к этим формулам Ницше: «Психологически пересчитать значит: все уценить до ценности (для человека. — В.Б. ), а ценности вычислить из базовой ценности, воли к власти» (Der europäische Nihilismus…, S. 62). Мнимый «психологизм» ницшевской «воли к власти», по Хайдеггеру, — эпизод перехода новоевропейской метафизики в метафизическую антропологию.
См.: Ницше Ф. Воля к власти, § 484: «„Мыслят: следовательно, существует мыслящее“: к этому сводится аргументация Декарта. Но это значит предполагать нашу веру в понятие субстанции „истинной уже a priori“: — ибо когда думают, что необходимо должно быть нечто, „что мыслит“, то это просто формулировка нашей грамматической привычки, которая к действию полагает деятеля. Короче говоря, здесь уже выставляется логико-метафизический постулат — не только нечто констатируется… По пути Декарта мы не достигаем чего-либо абсолютно достоверного, но приходим лишь к факту очень сильной веры» (Ницше Ф. Полн. собр. соч., т. 9. М., 1910, с. 225. — Перевод Е. Соловьевой).
Читать дальше