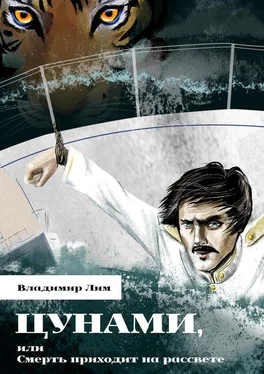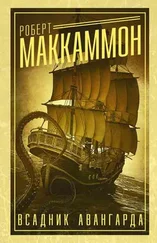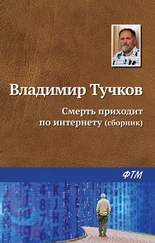Пушкин даже почувствовал мгновенную легкую тошноту, будто это он выругался, да еще в переполненной институтской аудитории. Пушкин смотрел на Пинезина, и этот человек был ему отчетливо неприятен – непонятно отчего, не от матерщины же, Пушкин и сам иногда поругивался…
– Ну, ты это… и ругаешься, – сказал Русяй, неловко улыбаясь, – ниче-ниче, а другой раз как скажешь…
– Как будто вынул и показал! – подсказал Рыжий, вставая и направляясь к вахтенному, который с важным видом пересчитывал ящики с пивом и лимонадом.
Появление вахтенного развлекло Пушкина, но вахтенный делал вид, что не замечает его.
Русяй подошел к Саше, положил ему на плечо руку и сказал успокаивающе:
– Ничего, ничего…
Русяй улыбнулся, когда Саша посмотрел ему прямо в глаза.
И этот человек вдруг стал понятен ему, как прочитанная книга. Саша знал, что это за улыбка!
Когда-то такая же улыбка была у него самого, ее можно было назвать собачьей. Да она и была собачьей – чересчур искренней, искренней до беззащитности: вот я какой, мягкий, вы можете сделать со мной что хотите, но вы не сделаете со мной ничего, потому что вы – хорошой человек…
Эта улыбка появилась у меня вместе с неодолимой способностью краснеть даже от мимолетного взгляда… это случилось разом: мама, усадив меня в кресло и опустившись передо мной на корточки, объяснила, почему отец никогда к ним не вернется – он был осужден не за растрату, как другие, а как японский шпион, и это он был инициатором развода…
Я почувствовал, как кровь приливает к лицу и становится противно жарко…
И странное дело, при этом я видел арест совершенно другого человека, главного бухгалтера завода, его вели по трапу баржи два милиционера, придерживая под локти, а на берегу стояла вся семья бухгалтера, все – женщины в распахнутых одеждах; красивая девочка из старшего класса, его дочь, которой до этого дня все завидовали, отворачивала свое красное заплаканное лицо и куда-то рвалась из рук мамы, заведующей рыбкооповским магазином…
И вот этот стыд и позор, который все же не мог обезобразить нежные черты дочери бухгалтера и который был во всем ее облике, даже в ее толстой соломенной косе, бившей ее по сгорбленной спине, стал каким-то образом моим стыдом и моим позором…
А отца арестовали ночью, когда я спал или делал вид, что сплю, щеночком свернувшись под одеялом… Я спал даже после того, как кто-то чужой сдернул с меня одеяло и вот так, клубком, понес меня куда-то…
Это был коллапс Вселенной, крушение основ: мое детское сознание не могло вместить увиденное из-под одеяла – мой отец, директор завода, самый уважаемый человек в этом мире, лежал на полу, лицом в ковер, а над ним стоял некто розовощекий, в ремнях и фуражке, и кричал: «Руки за спину, гад!»
С тех пор я ни в чем не был уверен, в любой день и час за каждым из нас ходит некто неотвратимый, как судьба, и в самый пик твоего безмятежного счастья тебя могут повалить на пол, ткнув револьвером в затылок, и затоптать начищенным сапогом…
После ареста отца мама вернулась в Москву, в коммуналку на улице Карла Маркса, в дом с огромными сквозными подъездами и высокими потолками.
Там, под потолком, мне устроили спальное место, на которое я взбирался по приставной лестнице…
Соседнюю комнату, которая и в высоту и в ширину была метров шесть, занимала сестра мамы, актриса кукольного театра, она все время пропадала на гастролях, а потом и вовсе переехала на Камчатку, основав там свой маленький кукольный театр… После ее смерти Колодец, так она именовала свою забронированную квартиру, каким-то образом достался мне и маме (у меня было подозрение, что тетка усыновила меня и прописала в Колодце)…
Колодец помог мне забыть о своем позоре, вернее, теткины книги, которые стопками поднимались с пола как сталагмиты… Я все более удалялся ото всех, одноклассники становились детьми все более знаменитых родителей, со мной не очень-то водились, но меня это устраивало, я знал, как жестока бывает жизнь к тем, кто счастлив.
Я был робок, но независим и свободен, хотя бы в пределах Колодца…
Я влюбился в дочь писателя, собирателя икон, она была также робка и молчалива, возможно, потому, что ее отца ругали во всех газетах, даже в «Пионерской правде», в которой я любил читать фантастические рассказы из будущей жизни…
Оля приходила в наш двор покататься на качелях. Она молча дожидалась своей очереди, плотно сдвинув свои красивые ноги, как-то ее попыталась оттеснить Юля, моя соседка, девочка с сумасшедшинкой, но Оля крепко держалась за веревку и не отпустила даже после того, как Юля принялась раскачиваться, в результате обе упали… Но я не осмелился тогда помочь ей… это сделал кто-то другой…
Читать дальше