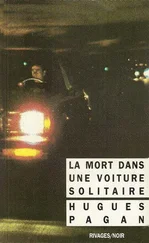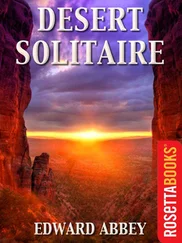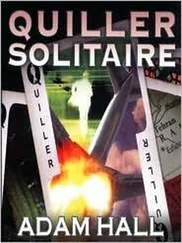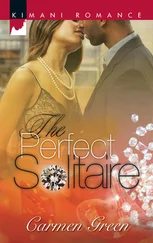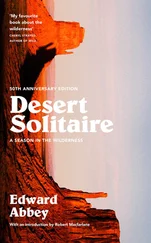Звук колокольчиков, висящих над дверью, осведомил нас о новом посетителе. Диалог с Реденвольдом прервала особа, вопросительно взглянувшая в нашу сторону. Девушка лет шестнадцати стояла у дверного проема – с длинными, почти по колено, темными волосами. Одета она была в нечто строгое. Пиджак из синего бархата, белая рубашка, небрежно завязанный галстук. Регламентированный внешний вид больше напоминал учебную форму, помимо этого она держала в правой руке спортивную черную сумку среднего размера.
– С возвращением, Агнесс! – воскликнул старик. – Как прошел турнир по фехтованию? – поспешил осведомиться Реденвольд, немного вздрагивая от неожиданности.
– Второе место, – пройдя пару нерасторопных шагов до барной стойки, разочарованно произнесла девушка, уткнувшись головой в столешницу.
– Не отчаивайся, в следующий раз обязательно, – послышались приободряющие слова поддержки в адрес юной фехтовальщицы.
Я не мог не отметить очевидную специфичность такого вида занятия, что Реденвольд объяснил тем, что с раннего детства просвещал ее в искусстве владения ручным холодным оружием, и, судя по всему, ученица преуспела в бесчисленных тренировках.
Винфрид представил мне свою двоюродную племянницу. Ее звали Агнесс Ривера. Меня это сильно удивило. Ведь Реденвольд о своей семье не больно распространялся, да и вообще педалировал ее отсутствие. Тем не менее родственная единица в лице Агнесс все же заставила меня порадоваться за старика. События складывались не так плачевно для меня, в том числе как минимум сократившиеся часы работы приводили в неподдельное ликование. Ведь теперь Агнесс делила со мной вакантное место в чайной. Соответственно, мое свободное, все такое же ценное время немного обогатилось в запасах часов и минут.
С того момента, можно сказать, я уже не был равнодушен к этому месту. Все прозвучавшее из уст Винфрида произвело глубочайшее впечатление на меня. Теперь я стал частью истории, творящейся в стенах Métamorphose, и идеологии Реденвольда и еще больше сроднился с новым местом. Комната, служившая обителью, в которой заканчивался каждый день, все так же немного одинокая, ничем не отличалась от той, в которую я въехал несколько дней назад. Хотя все-таки одно исключение достаточно сильно переменило прежний заброшенный облик комнаты. Единственное уцелевшее утешение в круговороте минувших времен – это несколько исписанных холстов и прилегающие к ним инструменты для творчества, способные сделать существование принадлежащей мне действительности менее одиноким. Это был своего рода сборник собственных произведений живописи, на которых изображены самые различные моменты из жизни, отражающиеся в разбитых осколках зеркала, что в общей сложности сформировало мое единое видение на мир. Холст появился в моей жизни с того самого момента, когда я понял, что имеется потенциальная вероятность выражать себя кистью и красками. Такая возможность казалась мне спасением, рукой помощи, протягиваемой мне, бесконечно проваливающемуся в бездонную про́пасть. Как в те моменты, когда я оставался один на один со своим одиночеством, и не всегда это плохо, порой это до такой степени прекрасно, что вызывает у меня непреодолимое желание поделиться этим глубоким чувством. Различные техники, переливы цветов, а порой и вовсе сочетание лессировочной и мазковой техники с плоскими фигурами давали полную свободу в передаче идеи. Несомненно, экспериментирование в таких делах доставляло мне наибольшее удовольствие, а вместе с тем и радость от получившихся по завершении процесса атипичных оптических эффектов. Вне зависимости от того, что я испытывал, будь то внезапно снизошедшее вдохновение высокого чувства или глубокое отчаяние, я всегда стремился поделиться этим ощущением. Тот я, что читался между штрихами на холсте, был настоящим и далеким от того, кто предстает перед людьми. В своих работах я обретал настоящую, подлинную свободу. Не меньше меня привлекала мысль, вернее будет сказать, именно она укрепила мою веру, что заниматься мне следует не чем иным, как искусством, когда понял я одну вещь – даже такое, казалось бы, безнадежное чувство, как печаль и горе, наделяется в искусстве чрезвычайной силой и способно вызвать в людях прекрасные чувства. Боль – это всегда награда, ею всего лишь нужно научиться пользоваться, и великие мастера своего искусства наверняка овладели этим навыком. Страдания таких выдающихся художников, как Винсент Ван Гог и Эдвард Мунк, теперь висят в галереях и вызывают в каждом зрителе восторг и восхищение. Ведь когда-то Ван Гог, будучи абсолютно одиноким в своем видении, неистово страдал от непонимания и отвержения своего искусства. Эдвард Мунк, с ранних лет столкнувшись лицом к лицу с ликом смерти, страданиями и болезнями, не имея ни капли сомнения, что в жизни человек обречен только на печаль и страдания, черпал свое вдохновение для самых известных на сегодняшний день полотен. Вспоминаются некогда сказанные слова Зигмунда Фрейда: «Невыраженные эмоции никогда не умрут. Они похоронены заживо и позже появятся в более уродливых отношениях». Потому всегда есть выбор между тем, чтобы выражать эти эмоции посредством самого верного способа – искусства, превращая в нечто прекрасное. С тех пор моя мечта стать непревзойденным художником и обрести высшую награду всякого созидания – это понимание и признание в глазах людей. Однако мой луч света светил недолго. Сложно было заниматься страстным увлечением, когда ко всему тому, что я делал, чувствовалось отношение невежественности предмета моего искусства. Хотя это, возможно, и вдохновляло меня, это же и препятствовало творению. Минуя некоторое время, возникло непреодолимое чувство необходимого тотального абстрагирования от окружающих меня дел, забот и мыслей. Если быть точным, такое пристрастие начало всплывать наружу после того, как я избавился от угнетенного состояния, в условиях которого я проживал раньше, хоть и не осознавал это до последнего. Теперь я чаще оставался наедине, нередко размышлял о себе и понемногу начал знакомство с тем, кто смотрел на меня из зеркала. Свои попытки на холсте я всегда завешивал белой простыней, чтобы кто-то, проходя мимо, невзначай не увидел мои скромные попытки занятия, в которые я никого не посвящал, и не дай бог мысленно не принялся бы оценивать авторскую работу. Я был слишком самокритичен для этого и думал, что абсолютно каждый придерживается такого же мнения. Я был уверен, что за подобное я подвергнусь мгновенной критике и насмешке.
Читать дальше