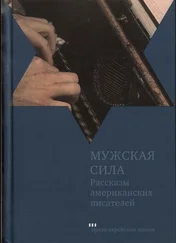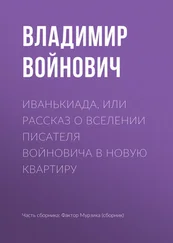— Что ж, — сказала старуха, — ты свое дело сделал. Спасибо тебе.
За последние несколько минут его благодарили второй раз. Он быстро глянул на нее, но она смотрела серьезно, насмешки в ее глазах не было. Длинные синие тени уже неторопливо перечеркивали сад с искусственными каменными горками, где вылизывала себя, примостясь между остывающих камней, белая кошка. Фургон давно уехал, издалека, из самого города донесся фабричный гудок. Мальчику казалось, он пробыл здесь долгие часы, но одно он знал твердо: хотя дом этот никогда не станет его домом, как бы долго он ни пустовал, но чтобы отсюда уйти, надо собрать все силы. А все-таки надо уходить. И остается еще кое-что прихватить с собой. Он подошел к розовому кусту и из-под колючих веток вытащил карточку. Низко наклонился, стоя спиной к старухе, потер рукавом стекло, сунул фотографию в карман куртки, потом выпрямился, постоял, поглядел в голые, незавешенные окна пустого дома. И, все еще не оборачиваясь, все не отводя взгляда от дома, сунул в петлицу желтую розу — небрежно, словно бы даже рассеянно и, однако, умело, будто взрослый, уверенный в себе улыбающийся мужчина красуется со своей бутоньеркой под восхищенными взглядами, которые шлют ему из окон. Так он стоял долгую минуту, потом все с тем же уверенным видом зашагал прочь, а старуха меж тем деловито подбирала обрывки тряпья и бумаги вокруг сарая. В его сторону она больше не посмотрела.
На дороге перед домом, где прежде стоял фургон, было пусто, тихо, по другую сторону улицы ворота, двери гаражей стояли настежь, готовые принять машины, которые скоро уже начнут возвращаться после дневных дел. Дорожки, живые изгороди, ступеньки крылечек — все подметено, подрезано, приглажено, все каждый день в урочный час поджидает своих преуспевающих хозяев. А там, где недавно стоял фургон, дорога вся изрыта, и дом после того, как его весь бесстыдно выпотрошили, словно замер как вкопанный, угомонился, притих, затаился. Мальчик опасливо двинулся прочь, рукой он прикрывал розу — как бы случайный встречный ее не увидел, и еще — как бы она не выскользнула из петлицы. Но скоро его осанка стала непринужденнее, а когда мимо пронеслась первая из встречных возвращавшихся домой машин, он засунул руки в карманы и зашагал к городу широким свободным шагом.
Фрэнсис Кинг
Воспитание чувств
(Перевод Е. Суриц)
Синтия и Роберт Пью привыкли говорить о Накано «наш мальчик». Сначала они просто имели в виду, что по обыкновению японских студентов он нанялся к ним помогать по дому на свои свободные часы ради практики в английском и заработка; но постепенно — и для них и для него — эти два слова стали значить, что он им чуть ли не приемный сын. Они были не первой молодости и бездетны.
Однажды воскресным утром он позвонил к ним в дверь и сообщил, что хочет посещать занятия воскресной школы. Он тогда еще не очень освоился в английском языке, и Синтия, в халате выбежавшая на звонок, не сразу смогла взять в толк, чего ему надо.
— Да нет тут у нас никакой воскресной школы, — наконец вскинулась она, и, дважды повторив это непонимающему Накано, она закричала мужу, чтоб тот перевел. Вышел Роберт и заговорил по-японски, бегло и ничуть не заботясь о грамматике. Накано изумился. Нет воскресной школы? Но сегодня ведь воскресенье?
Конечно, воскресенье; но они, учителя, не миссионеры, при чем же тут воскресная школа?
Не миссионеры!
Накано всего две недели, как приехал в Киото из глухой деревни, с самого южного края острова Шикоку, и все иностранцы в Японии до этого мига были для него миссионеры.
— Прошу прощенья, — сказал Роберт по-японски, — но если вам нужна миссия, так вон там финская, — он показал направо, — а вон там католическая. Большой выбор. Можете обратиться туда.
— Мне нужна практика в английском, — упрямо по-английски произнес Накано. — Можно, я буду беседовать с вами? — Эти фразы он отрепетировал заранее.
Синтия и Роберт переглянулись. Просьба для них была привычная, как для всех иностранцев в Японии; и теперь они отвечали на нее отказом так же неизменно, как раньше неизменно отвечали согласием. Но робость и решительность мальчика, его пыльные голые ноги в гета [14] Гета — японская деревянная обувь.
, его брови и ресницы, тоже пропыленные, уже сделали свое дело; Синтия и Роберт уже почувствовали на себе его обаяние. Они смягчились; пригласили его войти. Накано, решили они тогда и много раз решали в дальнейшем, был «совсем другой», хотя, в чем именно его отличие, определить им не удавалось. Красивый, конечно; маленький, гибкий, тугой, как струна; немыслимо густые брови, немыслимо белые зубы; во всей повадке трогательная смесь истого смиренья и такой же истой гордости; и он был умен — насколько умен, они разобрались только через неделю-другую. Они выяснили, что живет он более чем скромно, ест один-два раза в день и ходит пешком в университет, экономя на проезде. Но тогда, вначале, он не жаловался на судьбу и редко унывал.
Читать дальше