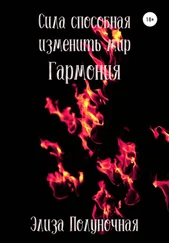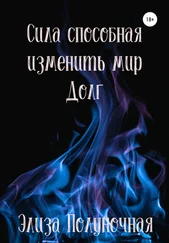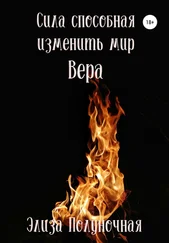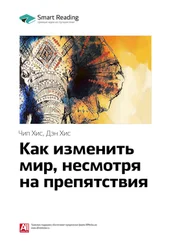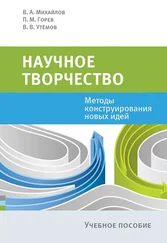Но никто не выглядел обиженным. Никто не говорил «это не в моей компетенции» или «заполните эту форму и приходите через три недели». Превалировал подход типа «закатаем рукава и посмотрим, что можно сделать, чтобы разрешить проблему».
Суть была понятна: без Renascer таких детей, как Даниэл и Маркос, госпитализировали бы чаще. Больше страдали бы они, больше страдали бы их семьи, больше работы было бы у врачей. А все общество оплачивало бы эту работу.
В 1999 г. глава педиатрического отделения больницы Лагоа Одилон Арантес сообщил, что в период с 1991 по 1997 г. благодаря наблюдению за пациентами больницы, осуществленному Ассоциацией Renascer, количество случаев повторных госпитализаций в его отделении уменьшилось на 60 %. Эффект от работы Ассоциации он охарактеризовал одним словом – «потрясающий». Врачи и медсестры больницы теперь могли заниматься своей прямой обязанностью – лечить пациентов, а не вести беседы о профилактике и разъяснять жительницам фавел, что такое здоровый образ жизни. «Это полностью изменило мотивацию работников отделения, – сказал Арантес. – До появления Renascer мы тратили много энергии и средств на оказание медицинской помощи в кабинете неотложной помощи или в отделении интенсивной терапии, зная при этом, что велика вероятность того, что дети потом могут умереть из-за отсутствия должного ухода. Теперь же, когда мы выписываем ребенка из малоимущей семьи, мы можем быть спокойны. Это делает нашу работу более значимой и полезной».
Что же в контексте проблемы бедности представляет собой правильное лечение? На опыте Renascer Кордейро установила, что в среднем для полного излечения больного ребенка из фавел необходимо восемь месяцев регулярных контактов между матерью и организацией, которая в состоянии разрешить ряд ее социальных проблем. Иногда требуется 12–14 месяцев или даже больше.
Но порой даже этого бывает недостаточно. Вере Кордейро часто приходится сдерживать себя и напоминать, что Renascer не может разрешить все проблемы Бразилии. Ее задача – сделать все для того, чтобы дети, прошедшие курс лечения в Лагоа, насколько это возможно, оставались здоровыми.
Это – работа, цели которой вполне поддаются количественной оценке, а конкретные действия ограничены во времени. Основная задача – заниматься ею системно, показывать пример другим и добиваться, чтобы с течением времени подобный подход к послебольничному уходу за детьми из бедных семей стал стандартом в масштабах всей страны.
Вера Кордейро выросла в обеспеченной семье в бедном пригороде Рио-Бангу. Ее отец Хорст работал главным инженером на текстильной фабрике. Он был сдержанным, дисциплинированным и честным человеком. Мать Кордейро, Корделия, психолог по профессии, – женщина дружелюбная, отзывчивая. По сравнению с соседями семья Веры считалась богатой. У них были горничные, повара, водитель, охранник. Вера уже в детстве имела четкое представление о различиях между ее семьей и их соседями. Она часто слышала, как мать просила отца помочь с работой сыну того ли иного соседа. Когда Вере было шесть лет, няня отчитала ее за то, что она отдавала слишком много игрушек соседским детям.
В десять лет Вера выиграла грант на обучение в частной школе. Ее отправили в Копакабану, к дяде Маурисио и тете Леонор. Круг общения Маурисио и Леонор составляли интеллектуалы, творческие люди, и Вера Кордейро принимала активное участие в их увлекательных дискуссиях о философии, социальной справедливости, о будущем бразильского государства, где в то время господствовала военная диктатура.
Решение Веры учиться на врача было во многом обусловлено влиянием дяди Маурисио, тоже врача по профессии. В медицинской школе Вере, конечно, нравилась и анатомия, но еще больше ее интересовала «эмоциональная составляющая» человека. А она на учебных занятиях практически не затрагивалась.
После окончания медицинской школы Кордейро, которой тогда было 25, устроилась на работу в Лагоа. Ее определили в приемное отделение больницы. Каждое утро Вере приходилось принимать около 20 пациентов. Поначалу она занималась только этим, но спустя некоторое время стала улучать моменты и общаться с пациентами больницы. Большинство из них были малообеспеченными женщинами. Постепенно Вера «вышла» на связь между их физическими недугами и стрессами, вызванными трудностями повседневной жизни.
Кордейро попросила главврача больницы Лагоа разрешить ей создать при больнице отделение психосоматической медицины (психосоматическая медицина изучает связь между эмоциональными стрессами и заболеваниями). После двух лет настойчивых просьб Вера наконец получила добро. Отделение психосоматической медицины, созданное ею в больнице Лагоа, стало первым в бразильских государственных медицинских учреждениях. Кордейро внедрила несколько видов социально-психологической терапии, в том числе художественную, групповую терапию, практиковала различные методы релаксации, призванные помочь пациентам справиться с хроническими заболеваниями, такими как астма, порок сердца, гипертензия.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
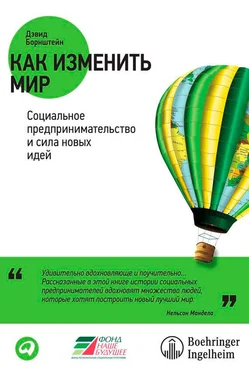
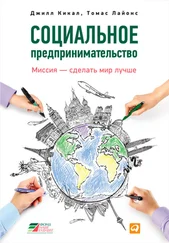
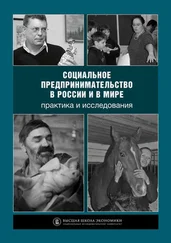
![Мануш Зомороди - Разреши себе скучать [Неожиданный источник продуктивности и новых идей] [litres]](/books/409770/manush-zomorodi-razreshi-sebe-skuchat-neozhidannyj-i-thumb.webp)