Напоминает о чуде в горах,
О месте людей и других мирах.
Я не забуду, как в звездном дожде
Он прожег небеса,
Как оранжевый свет дарил,
Маленьким солнцем согревал.
Он вырывается из беспокойного сна и жаждет кофе. Выходит на кухню к семье, садится за стол. Завтрак – будто сцена картины Мэри Кэссетт, если бы ее писал Боннар или Хогарт.
– Сегодня собираюсь закончить книгу.
– Хорошо.
– Дэвид, одевайся скорее, тебе уже пора в школу.
Дэвид отрывается от книги.
– Что?
– Одевайся, уже пора. Тим, хочешь хлопьев?
– Не.
– Ладно. – Он усаживает Тима на стул перед миской. – А так?
– Не. – Копает ложкой в миске.
Начало занятий все ближе, и Дэвид начинает свое ежедневное воссоздание парадокса Зенона – той самой загадки об Ахиллесе и черепахе, в данном случае – успеет ли Ахиллес в школу, если выйдет из дому в последнюю минуту? «Ахиллес» шевелится все медленнее и все меньше обращает внимание на окружающий мир, пока в итоге не оказывается в совершенно ином пространственно-временном континууме, очень слабо взаимодействующем с этим. Удивляясь, как этот «мальчик-нейтрино» вообще может быть настолько рассеянным, его отец перемалывает зерна для своего утреннего кофе по-гречески. Раньше он пил эспрессо, но в последнее время пристрастился к мутному кофе по-гречески, который готовил себе сам, наслаждаясь его запахом. На Марсе более разреженная атмосфера не позволила бы ему так хорошо ощущать этот запах, а значит, ничто там не сравнится со вкусом утреннего кофе. И вообще Марс может оказаться настоящим кулинарным кошмаром, где все на вкус будет казаться пылью, отчасти потому, что там действительно пыльно. Но они по возможности приспособятся и к этому.
– Ты готов?
– Что?
Он усаживает Тима вместе с миской хлопьев в велосипедную тележку и начинает крутить педали вслед за Дэвидом. Они едут в школу через всю деревню. Идет конец лета на тридцать седьмой северной широте, и по обе стороны от велосипедной дорожки виднеются цветы. В небе проплывают пухлые облака.
– Если на Марсе мы тоже будем ездить в школу на велике, крутить педали будет легче, но будет холоднее.
– А на Венере еще холоднее.
В школьном дворе полно детей.
– Хорошо себя веди. Слушай учителя.
– Что?
Он подъезжает к садику Тима, оставляет его там и торопливо возвращается домой. Затем сочиняет себе список дел, благодаря которому сразу чувствует себя молодцом и который помогает ему справиться с зарождающимся чувством, будто у него слишком много работы. Это действительно помогает взбодриться и приводит к мысли, что на самом деле все не так плохо, как он думал. Ощущая душевный подъем, он делает из списка самолетик и запускает его в мусорное ведро. Не потому, что во всей этой последовательности нельзя найти причинно-следственные связи. Просто все получится само собой. Или нет.
Он решает покосить лужайку, перед тем как приниматься за работу. Нужно сделать это, пока трава еще не выросла по колено, особенно если пользуешься несамоходной газонокосилкой, как он, – по экологическим, эстетическим, атлетическим и психопатологическим причинам. Сосед, приветствуя его, машет рукой, а он вдруг в изумлении останавливается и сообщает:
– На Марсе трава разлетится во все стороны! Нужно будет прилепить какую-нибудь корзинку! Да и трава эта не будет такой же зеленой.
– Думаешь? – спрашивает сосед.
Вернувшись в дом, он достает список из корзины и вычеркивает покос лужайки. Затем устремляется к столу, готовый писать. Он достигает предельной концентрации в одно мгновение – или, по крайней мере, как только очередная чашка черной гущи доходит до системы кровообращения. Первое слово этого дня приходит быстро:
The.
Конечно, может, это и не самое точное слово. Он задумывается. Время течет по двойной спирали вечного безвременья, пока он передумывает, переписывает, перестраивает. Строка разрастается, сужается, разрастается, меняет цвет. Он перекраивает ее под вольный стих, математическое уравнение, глоссолалию. Затем, наконец, возвращается к исходному варианту, довершая последним маленьким штрихом:
The End [85].
В этом умещается все, что нужно сказать, к тому же это вдвое больше его обычной дневной нормы. Пора праздновать.
Пока он едет забирать Тима из садика, принтер печатает рукопись романа. Вернувшись домой, он меняет мальчику подгузник. Протесты ребенка и шум принтера привносят контрапункт в теплый летний воздух. Теплый летний воздух Дейвиса [86], сто девять градусов [87]– по крайней мере, по устаревшей шкале Фаренгейта, к которой некогда были привычны американские читатели из двадцатого века, не принимавшие шкалу Цельсия, не говоря уже о чрезвычайно практичной и крайне интересной шкале Кельвина, начинавшейся с абсолютного нуля там, где и должно было начинаться. Сейчас, например, если он не ошибался в расчетах, было свыше трехсот градусов Кельвина.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Ким Робинсон Марсиане [сборник] обложка книги](/books/27420/kim-robinson-marsiane-sbornik-cover.webp)


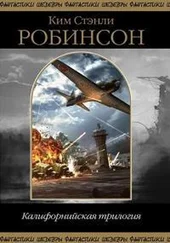

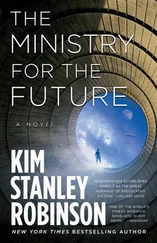



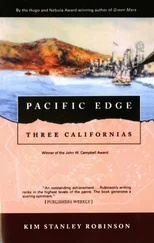

![Ким Робинсон - Черный воздух. Лучшие рассказы [сборник litres]](/books/429988/kim-robinson-chernyj-vozduh-luchshie-rasskazy-sborn-thumb.webp)