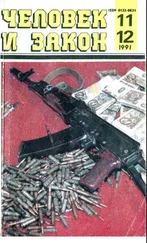– Чушь собачья, все не так. Это общественная мораль въелась в печёнки так глубоко, что мы следуем за ней машинально, как лунатики, и не ведаем греха, – жаловался он мне на равнодушие святых угодников. – Ты почему не закусываешь?
Про себя он еще говорил, что при всем желании не может подчинять личные интересы общественным в таких условиях, а посему не имеет права носить высокое звание сознательного члена общества. Коммунистического, а уж тем более капиталистического.
– Вот почему, ты мне скажи, раньше за это ругали, а теперь хвалят. То есть хвалят за то, за что ругали. Раньше ты мне был друг, товарищ и брат, а теперь, выходит дело, – волк. Ну и как, по-твоему, бытие первично или сознание? Вернее, отсутствие всякой сознательности.
***
Желание со всеми разобраться, во всем дойти до сути у Кольки было в крови. Касалось ли дело работы, поисков пути или душевной смуты, он шел до упора. Разумеется, эта неуемная, первобытная страсть ни к чему хорошему нормального человека привести не могла. Обычно все его попытки найти рациональное зерно в этой ахинее насчет рефлексии и бессознательного после второй рюмки кончались моральным опустошением и депрессией. Которая, впрочем, также длилась недолго. Последние капли водки, он выплескивал на землю – богам и устремлял незамутненный, лучистый взор на колокольню.
С этого момента я знал, что на него нисходит благодать и наступает момент озарения. Он оглядывал тихим взглядом шумящие над погостом тополя с черными папахами вороньих гнезд и стаями галок на ветвях, смиренное кладбище, и на его морщинистому лбу отражалась напряженная работа мысли, мучительная внутренняя борьба добра со злом. Так он настраивался на иной лад, и к нему постепенно возвращалось мистически-романтическое сознание. Как в детстве.
Оно придавало ему твердую уверенность в том, что близость к мощам покоящихся рядом праведников облегчает душу и наводит порядок в мыслях о вечном. О чем сам не раз говорил. Спустя минуту после тщетных попыток найти ответы на самые трудные вопросы нашего муторного бытия и современности, он благодарно возводил руки к небу и меланхолично с глубоким придыханием читал, словно молитву: «Как у Христа за пазухой».
Наверное, эта идиллическая картина помогала ему освободиться от кошмаров интуитивного, спонтанного и бессознательного. Он уже больше не обличал недостатки и язвы общества, не ссылался на Декарта, который ставил знак равенства между сознанием и психикой, на Спинозу с его аффектами и смутными идеями, на Лейбница и Шеллинга, которых немцы почитают как духовных отцов творящего мир начала, на Фихте и Шопенгауэра, исповедовавших принцип свободной деятельности человека… А про своего любимого Эдуарда фон Гартмана, воспевавшего пансихизм и всеобщую способность к ощущениям, вообще не вспоминал. Тон его реплик становился каким-то отрешенным. По крайней мере, на этот вечер.
– А ты думаешь, почему Веня Ерофеев, едучи в поезде Москва-Петушки, заговорил о божественной сути не где-нибудь в Купавне, Кучине или Салтыковке, а именно у нас, на станции Кудиново? Все остальные время он лишь пил и похабничал, а тут его – алкаша вдруг осенило. Как это?
Действительно, почему? Я как-то об этом не думал. В самом деле, Венечка ехал из Москвы от Курского вокзала за 101 километр, черту оседлости, где ждала его любимая девушка. Ехал со всеми остановками, и на каждом перегоне у него были любопытные диалоги с попутчиками на всякие разные темы. Но нигде и ни с кем он ни разу не обмолвился о христианской вере, всю дорогу молчал про церковь. Только в Кудинове, то есть в Электроуглях его прорвало.
Это довольно странно, думал я. Почему-то именно здесь ему явилось откровение, и он нашел лучшее средство от поверхностного атеизма – больше пить и меньше закусывать. Здесь он впервые и единственный раз покаялся за своего собрата – икающего безбожника. Именно на нашей станции, на подъезде к которой от 33-го километра видны купола Покровской церкви, объявил на весь свет, что верит в промысел свыше и больше не заикается о противоборстве.
– Да, чудно, – признал я и спросил, чего он еще накопал о нашей малой родине с тех пор, как мы не виделись.
Колька с детских лет интересовался историей села, вел кружок в школе, и с годами у него скопился внушительный архив бумаг, грамот и документов, касающихся нашей церкви. Он первый из нас поступил в институт, в МАДИ у метро «Аэропорт», но не закончил, его выгнали с третьего курса «за аморальное поведение, преклонение перед чуждой буржуазной культурой и стиляжничество». Основанием явилось письмо председателя Кудиновского сельсовета – С. Михайлова, где тот настоящим сообщал, что студент Вендеревский позорит облик советской молодежи, танцует стилем в деревенском клубе.
Читать дальше