Здесь, за восемь веков «до», такое — «богачество невыразимое».
Воля! Над душой ни попа, ни боярина… Благодать! Юг, чернозём… Шестьдесят пудов на пятерых?! — Обожраться!
«Керосин», «спички» — а что это? Ковать коня на полный круг, пахать на быках… разве так бывает?
* * *
Хлебопашество на «Святой Руси» имеет свою историю развития. Умом мы это понимает, но в душе «опрокидываем» представления об 19 в. в далёкое прошлое. «Что было — то и… и прежде было». Анахронизмируем.
Чуть подробнее.
До эпохи раннего железа на территории лесной полосы Восточной Европы господствует ячмень. Потом его меньше: к 10 в. — 2/3 от пшеницы.
Вторая половина I тысячелетия: на первом месте пшеница (мягкая), втрое меньше — полба. Примерно столько же мелкоплодных бобов. Несколько меньше гороха.
Почему на Новгородчине, например, горох, идеально подходящий по почвам, климату, световому дню… к местным условиям, превосходящий по урожайности и пищевой полезности рожь и пшеницу, не стал главной культурой — не знаю. Презрительное отношение сохраняется и в фольке 20 в.:
«Мы и пляшем, и пердим —
Хлеб гороховый едим».
Овса — нет. Точнее: он являлся засорителем ячменя и пшеницы. Ещё меньше другого засорителя — ржи.
Рожь и овёс — исконно-посконные хлеба наших предков. Для тех же предков, но предканутее — сорняки.
В X в. происходит «ржаной скачок» — «сорняк» становится основной культурой. Очень быстро появляется везде: Киев, Смоленск, Новгород… Связано ли это со «становлением Древнерусской государственности» и «Крещением Руси» — не знаю.
После ржи второе и третье места делят ячмень и пшеница. Овёс — на четвёртом.
Такой «квартет» в русской истории — на века. Рожь всё более обгоняет остальных, просо выпадает из основного списка. При этом, в конкретных местах-временах вдруг возникают резкие отклонения. Например, в Смоленске XIII в., преобладает рожь, но во второй половине столетия — овёс. Для Батыя? «Овсянка, сэр»?
В Клецке в XI–XII вв. пшеницы 91,6 % всего зерна. В Новогрудке XII в. пшеницы в 4 с лишним раза больше ржи.
Сходно южнее, в лиственно-лесной зоне серых лесных почв: пшеница, ячмень, преобладание ржи. Так же в Суздале XII в. В Старой Рязани в первой трети XIII в. просо, овёс, пшеница, горох и рожь. Последние — 95 % общего количества.
К XV в. производство овса вырастет в 2.5 раза — выйдет на второе место. Одновременно всех продолжит теснить рожь. В XII в. сумма трех яровых культур в 1,5 раза больше ржи, к XV в. — рожь дает зерна больше, чем три культуры вместе взятые.
* * *
Николай вдруг что-то вспомнил, глянул остро на прасола:
— Ты, Софрон, пеньком-то не прикидывайся, сироткой плакаться — не к лицу. Ты расскажи-ка Воеводе про Скородума Муромского.
— Та-ак, господа ближники. А это что за история?
— Да не… ну чё ты? Как оно повернётся… Хто ж знает?
— Давай, Софрон, колись. В смысле: обскажи дело подробненько.
«Дело»… Сработала система. Плюс флуктуации человеческих личностей. Люди… они того — разные. Даже бояре.
Жил в Муроме боярский род, не из «первой руки», но и не из захудалых. Был в нём боярич, прозванный Скородумом за выдающуюся изобретательность во всяческих детских шалостях ещё с младенческих лет. Раз это дитё малое, ещё бесштанное, примотало косы няньки к лавке, где та спала, да заорало на ухо «Пожар!». Баба спросонок вынесла лавкой косяки в тереме и балясины на крыльце.
Будучи порот, обиделся на конюха, что его порол, и в первопрестольный праздник исхитрился нагадить тому в шапку, оставленную при входе в церковь. Да так, что тот одел и не заметил. Всю дорогу принюхивался, никак понять не мог откуда смердит. Увидел только когда уже в усадьбе перед господином кланялся.
Наказывали, но без толку. Поморщившись, почесав «расписанную» спину, он тут же начинал соображать новую каверзу. Вроде козы, которую затащил в кровать старшего брата, взамен ожидаемой тем дворовой девки.
«Ребёнок рос резов, но мил…».
Детские шалости становились всё взрослее. Родители уж и женить его собрались, в надежде, что семейная жизнь заставит оболтуса остепениться. Увы, Скородум был третьим сыном, доля в наследстве ему светила малая, а уж при таком норове… Выдавать дитя своё за эдакое «счастье», да ещё и нищее… никто из Муромских вятших не рвался.
Тут — Бряхимовский поход. Семейство боярское пошло воевать. Старшие братья сложили головы. Израненный, сразу постаревший отец решил спешно оженить последнего сына. Дабы «роду не было переводу». Сынок крутил носом, забавлялся-дурачился. Так, что свахи из терема бегом бежали, ругаясь нещадно.
Читать дальше

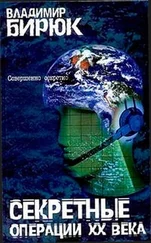
![В Бирюк - Обязалово [СИ]](/books/391348/v-biryuk-obyazalovo-si-thumb.webp)
![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416279/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii-thumb.webp)
![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416280/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch-thumb.webp)