Одновременно Чарджи прошёлся по «унжамерен» и сжёг Кострому. Что дало сотни пленных и тысячи «вынужденных переселенцев». «Вынужденно» — прежде всего для нас: оставлять на прежних местах общины, чью кровь мы пролили, нельзя. Чуть очухавшись, они обязательно восстанут. Не потому, что им плохо, а по закону родовой чести и «кровной мсти».
Продолжал расти поток собственно переселенцев.
В Киеве сменился князь. На смену Ростиславу (Ростику) пришёл Мстислав (Жиздор). Ещё никаких разорений не было, но русские люди, предчувствуя грядущие приключения потянулись… куда подальше. И ко мне — тоже.
Весной 1167 г. новгородцы выгнали князя Святослава (Ропака). Летом он сжёг Великие Луки, ходил с войском под Старую Руссу… Крестьянину в лесной веси это всё… кто-то, где-то, за тридевять земель…
Чуйка у наших людей… Как красноармеец по одному взгляду бабы из-за плетня понимал, что за сотню вёрст беляки фронт прорвали — я уже…
Услыхав новость на торгу, почухав затылок, мужичок пересказывал известие соседям в деревне. И добавлял мысль, думанную всю дорогу от города:
— Мы, вроде, на новое место собирались? Не пора ли?
— Дык… а куды?
— А зимой, помнишь, сказочники проходили. Сказывали, есть-де на восход-сторону место такое. Всеволожск, вроде.
— Да не… да ну… брехня… незнамо-неведомо…
Почти везде такая беседа заканчивалась ничем. Погуторили и разошлися.
«Почти». «Эффект больших чисел». На «Святой Руси» 700 тыс. крестьянских дворов. Десятая часть каждый год «перекатывается», «кочевые земледельцы». Если хотя бы тридцатая доля от «катящихся» покатится в мою сторону… Две тысячи семей, двадцать тысяч ртов… мыть, брить, учить… И — кормить.
Продолжалось запущенное ещё «Усть-Ветлужским соглашением» переселение мари из их кудо. Мещеряки, обнадёженные моими обещаниями, перебирались из «шалашей на болотах» в «белые избы»…
И уже «фестончиками по краям» шли десятки семейств мокши. Они-то думали, что на опустевшие эрзянские земли идут, из лесу выберутся. Сотни буртасов, ищущих жизни без эмировской джизьи. Молодые черемисы. Остатки сувашских «выкупных девок». Отпускаемые, а после — бегущие «в открытую» из Волжской Булгарии от тамошней смуты невольники. Следом — и их хозяева. Благо, с обустройством форпоста на Казанке мы существенно придвинулись к эмирату. Позже потёк, всё расширяясь, «огненный ручеёк» рыжих удмуртов…
Весной 1167 года я не всё это мог предвидеть. Но после «восстания картов» и «шпионского забега», две основных массы новосёлов — эрзя и русские — просматривались вполне.
Напомню: норма — 7 пудов в зерне на человека в год. Тысяч шестьдесят новых едоков… Взять дополнительно 400 тыс. пудов зерна — негде.
— «Прогресс»? — Заходите позже. У нас нынче «Голодомор» по расписанию.
Софрон, мой главный прасол, вызванный во Всеволжск, тоскливо смотрел на меня:
— Хоть режьте, хоть озолотите. Не, не смогу. Прости, Воевода, но не осилю.
С Софроном у нас знакомство давнее, ещё с Пердуновки. Тогда он, в составе купецкой артели, пришёл в Рябиновку с хлебным караваном. Я как раз доламывал местных волхвов голядских да снюхавшуюся с ними верхушку общинников-«пауков».
В той сваре он оказался единственным разумным человеком. Мы вышли с прибылью, хоть и без продолжения: больше к нам рязанские караваны с хлебом не приходили — обиделись купчики, что я им халяву поломал.
На радостях от решения проблем, я открыл ему «из свитка Иезекиили». В смысле: инфу о предстоящем голоде в Новгороде. Софрон меня послушал, да мало. Состорожничал. Можно было втрое взять, да испужался: «не по обычаю хлеб в такую даль санями гнать».
Едва я уселся на Стрелке, как Софрон уговорил партнёров привезти мне, тогда — в «пустое место», четыре тысячи пудов зерна. Если бы не это — не знаю как и живы бы были.
Э-эх… какие детские времена были! Спор-то шёл про полста кунских гривен. Страсти… чуть не до крови.
Партнёры отбили затраты — мне нельзя было превратить сделку в их разорение. Если бы не договорились — сделал бы, выхода-то не было. Но разошлись мирно.
А Софрон получил новый совет от Зверя Лютого:
— Всеволжск расти будет быстро, рязанский хлеб нужен будет долго. Бери это дело под себя.
Он — взял. Мне — поверил. Ни под что, только под моё намерение. И чуть не сгинул.
Рязанский князь Калауз уловил, что Всеволжск «висит» на рязанском хлебе, решил меня «выдоить» — ввёл вывозные пошлины. Я бы это пережил. Но он потребовал выдать перехитривших его Кастуся с Елицей и других голядин, бежавшими в то лето мимо Рязани от бойни на Поротве, учинённой гриднями епископа Ростовского Бешеного Феди.
Читать дальше

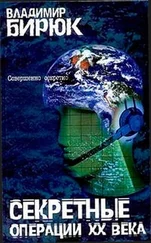
![В Бирюк - Обязалово [СИ]](/books/391348/v-biryuk-obyazalovo-si-thumb.webp)
![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416279/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii-thumb.webp)
![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416280/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch-thumb.webp)