Софрон, который вёл тогда шесть учанов с житом для меня, пребывал в полной панике: караван остановили, людей схватили…
— Не смогли мы наш с тобой уговор исполнить. Хоть и нет в том вины, а не попустил господь. И выходит нам теперь прямая смерть через разорение. Ежели ты, Воевода, не поможешь.
Я обещал купить. Не привезли? — Послать. Вежливо или пинками. А купцы-то уже вложились. И не только своими средствами, но и заёмными. По «Русской Правде» должника можно продать в рабство. С семейством.
Понятие форс-мажор в здешнем законодательстве есть: пожар, наводнение, шторм.
Изменение налоговых ставок форс-мажором не считается. Купцы взяли кредит — теперь влетели по самые гланды. Не фигурально: холопский ошейник как раз туда и надевают.
Судьба Софрона висела на волоске. Его самого, его родных. По смыслу мне платить не следовало: товара-то нет. Но я заплатил. Он понял:
— Господине! Я те… по гроб жизни! Во всяк день за твоё здоровье, ко всякой иконе — молитву сердешную…! Уж я говорил друзьям-сотоварищам, что не может Зверь Лютый людей своих в беде оставить. А не верили. Да я и сам-то… сомневался сильно… А ныне… Как Господа Бога вживую увидал! Вот те крест! С могилы, почитай, засыпанный поднял! Будто Иисус — Лазаря! Спаситель наш!
Он понадеялся… даже не на слово какого-то юнца с пафосным прозванием «Зверь Лютый». Просто:
— Этот… «зверь»… он — умный. Выкрутится… как-то… и нас спасёт… может быть…
Его вера. В удачу, в силу, в превосходство. В меня.
Я выкрутился. И его вытянул.
Сперва заплатил. Потом… Калауз «дуба дал». Князем Рязанским стал Живчик, с которым таких маразмов не возникает.
Софрон в меня верит. А я ему доверяю. И дело своё он знает хорошо.
Весна 1167 года, я вернулся из «грязевого похода». Переживал за Саморода, двинувшего на Суру добивать «закоренелых язычников», тревожился о Чарджи, вышедшем на Сухону. Пытался сообразить лучший способ крепления клевант на параплане. Тёр глаза после бессонной ночи со «стриптизом на привязи» Ростиславы Андреевны…
— Чёт мы, господа ближники, не с оттуда заходим. Давай-ка, Софрон, прикинь — сколько ты сможешь.
— Ну… кто ж знает… как год будет… это ж промысел божий.
— А если цену поднять?
Агафья в доме, в людях — просто гений. Не в рынке. Вот и предлагает стандартный способ. Ситуация: «скачок спроса за предел предложения»… не знакома.
Остальные мои «хоз. головы» — Николай, Терентий и Потаня — понимают, что рынок мы вычерпали, «забашлять по ноздри» — толку не будет.
Три года назад, при первой встрече с Софроном на Стрелке, я делал прикидки по возможному потоку зерна из Рязанско-Муромских земель. Не сколько «продадут», а сколько «могут продать».
Численность хлебопашцев Окского бассейна считал в 30 тыс. хозяйств. Именно «бассейна» — левобережье Оки с Коломной ушло к Суздалю, Муромское и Рязанское княжества слились, голядь выбили с Поротвы. Полит. география изменилась, а экономическая — нет. «Русь — от русла». Реки — зоны расселения основной части населения и транспортные магистрали.
Предположил, что средний крестьянин без надрыва сможет продать 3 пуда. Либо сразу — год урожайный, рыбка хорошо ловится… Либо чуть увеличивая (на 3–5 %) запашку под гарантированный сбыт.
Получалось: могу купить 90 тыс. пудов. Смогу кормить 13 тыс. человек. Без своего хлеба!
В том момент… вопли «Ура!» в моей душе. А деньги, орг. вопросы, хранение… порешаю.
В реале всё оказалось разнообразнее. Полсотни боярских вотчин продают 70 тыс. пуд. А остальное «вольное хлебопашество», 25 тыс. хозяйств — 30.
Да, они увеличили запашку. На 3–5 %. И это всё. И так — на века.
«— Мое хозяйство середняцкое, — не смущаясь, уверенно начал Майданников.
— Сеял я в прошлом году пять десятин. Имею, как вам известно, пару быков, коня, корову, жену и троих детей. Рабочие руки — вот они, одни. С посева собрал: девяносто пудов пшеницы, восемнадцать жита и двадцать три овса. Самому надо шестьдесят пудов на прокорм семьи, на птицу надо пудов десять, овес коню остается. Что я могу продать государству? Тридцать восемь пудов. Клади кругом по рублю с гривенником, получится сорок один рубль чистого доходу. Ну, птицу продам, утей отвезу в станицу, выручу рублей пятнадцать.
— И, тоскуя глазами, повысил голос: — Можно мне на эти деньги обуться, одеться, гасу, серников [керосину, спичек], мыла купить? А коня на полный круг подковать деньги стоит? Чего же вы молчите? Можно мне так дальше жить? Да ить это хорошо, бедный ли, богатый урожай. А ну, хлоп — неурожай? Кто я тогда? Старец [нищий]! Какое ж вы, вашу матушку, имеете право меня от колхоза отговаривать, отпихивать? Неужели мне там хуже этого будет? Брешете!».
Читать дальше

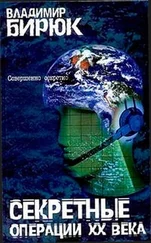
![В Бирюк - Обязалово [СИ]](/books/391348/v-biryuk-obyazalovo-si-thumb.webp)
![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга II. Чума бактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416279/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-ii-thumb.webp)
![Михаил Супотницкий - Очерки истории чумы. Книга I. Чума добактериологического периода [без иллюстраций]](/books/416280/mihail-supotnickij-ocherki-istorii-chumy-kniga-i-ch-thumb.webp)