Вокруг было море.
Черное в шторм, серое в ненастье, искристое, прозрачно-зеленоватое, как глаза Дайны, — в солнечные дни, оно всегда было разным и всегда одинаково притягательным.
День и ночь билось море о подножье утеса. Волны то лизали гранит, то сотрясали остров, с разбегу бросаясь на него грудью, но ни одна из них никогда не достигала вершины. Только в самые свирепые штормовые ночи ветер забрасывал наверх горькие морские брызги.
Там, наверху, росли кедры. В порывах ветра стволы кедров скрипели, защищая приютившиеся под их кровом домики. От домиков к морю спускалась извилистая тропинка, вырубленная в скале: у подножья острова иногда приставал катер.
Катер приставал редко, тропинка была крута и до материка далеко, но зато на острове-утесе, высоко над морем, в светлых домиках среди кедров жило Солнце. Здесь о нем говорили, ему поклонялись, ему служили. Эти домики на острове так и назывались: «Служба Солнца». Слишком многое в жизни обитателей Форуэллы зависело от Солнца…
Дайна стояла у откоса и смотрела в море. Она стояла, чуть подавшись вперед, опершись, как на перила, на ветер с моря, и он развевал ее свободно откинутые назад волосы, шелестел белым шелком платья. Дайна была похожа на Богиню Красоты, древнюю мраморную статую, но Богиню сорок второго века — чуть угловатую, порывистую, отчаянную.
Прищурившись, она смотрела в море из-под руки и пела звучным, немного гортанным голосом, пела свободно и громко, как поют для себя. Ей вторили волны внизу и тонко звенящие кедровые иглы над головой, а ветер подхватывал песню и бережно уносил в зеленый хаос моря, лишь изредка вплетая в нее свой собственный голос, похожий на отдаленные тревожные переливы арфы.
Дайна вглядывалась вдаль. Там, где море сливается с небом, должна показаться черная точка — катер. Дайна ждала мужа.
Но полоска горизонта оставалась чистой. Тогда, оттолкнувшись от поддерживающего ее ветра, Дайна запросто кивнула морю и направилась к светлым домикам.
Домиков было три. Один из них, самый большой, именовался Обсерваторией, другой — Вычислительным Центром, а третий — Общежитием.
С крыльца этого третьего домика навстречу Дайне спускался, постукивая тяжелой тростью, Антл. Его седая борода, его волосы и брови отливали серебром — так же как ткань легкого плаща. Взгляд Антла был мудр и ясен.
— Гляжу я на тебя, Дайна — сказал Антл, подходя к ней, — и каждый раз снова радуется мое сердце…
— Оно радуется мне, отец? — улыбнулась Дайна своей особенной, мимолетной улыбкой.
— Не зови меня так, не надо. К чему это дикарское почитание предков? И не перебивай мои мысли. Подумай, какая все-таки странная случайность, что эта крохотная планетка осталась жить, что ни один сумасшедший так и не нажал ни одной кнопки! Ведь по теории вероятностей, насколько я понимаю…
— По теории вероятностей, — подхватила Дайна, беря отца под руку и озорно увлекая в тень кедров, — это совершенно невероятно. Но вот факт — мы живем.
— Да, мы живем. И я каждый раз думаю, что нашей старушке Форуэлле страшно повезло. Я это думаю, глядя на тебя, Дайна.
— Ты мне льстишь, Антл!
— В мои ли годы льстить! За моими плечами — век… Так вот, я хотел сказать, Дайна, в судьбе человечества много случайного. Вот это, например, — он пренебрежительно ткнул пальцем в свои часы. — Сущая нелепость: делить сутки именно на десять часов. Или такая простейшая штука, как стол. Люди тысячелетия пользовались трехногим столом, когда очевидно, что стол с четырьмя ножками целесообразнее — он был бы более устойчивым. Или самолеты. Люди мечтали летать, глядя на птиц. Почему же они только теперь пришли к мысли о парящем крыле, хотя по логике должны были одновременно испытать оба: и махающее, и парящее? Добавь к этому колесо. Любому младенцу известно, что, кроме колеса-шара, возможно колесо-диск. И ведь об этом знали еще во времена дикарей. Но знать мало. Надо перебороть косность традиции. Я уверен, тысячи планет, тысячи цивилизаций не допустили наших нелепостей. Но они допустили другие, поверь мне…
— Почему?
— Ну, хотя бы потому, что великие ученые, от которых кое-что зависит в развитии цивилизации, суть простые смертные и, как таковые, неизбежно однобоки. Они сухари. Они лишены…
— Нет, Антл! Ндор был поэтом и музыкантом, он играл на арфе не хуже самых великих арфистов, а Эмуэ…
— Даже и они были ограниченными людьми. А великие открытия совершают только…
Читать дальше

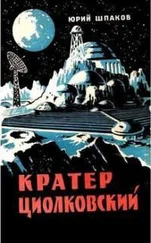



![Борис Лапин - Под счастливой звездой [повесть]](/books/395844/boris-lapin-pod-schastlivoj-zvezdoj-povest-thumb.webp)