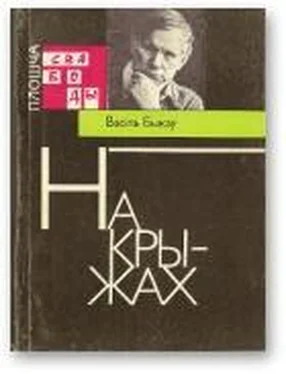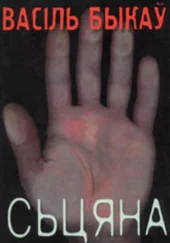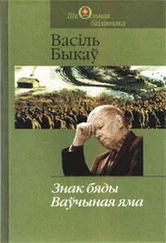— Это знак перемен в стране — возвращение Некрасова, который еще недавно был совершенно неупоминаем нигде и никак. Мне не удалось опубликовать даже нескольких строк по поводу его кончины. Теперь стало возможным о нем говорить. Печально, конечно, что все это происходит уже после того, как человек навсегда ушел из своей земной жизни. Тут, видимо, мы во власти традиции: не он один, очень многие стали терпимы для общества, даже признаны им после того, как переселились в мир иной. Так было, например, с Буниным, Набоковым, Ахматовой. Зачастую общественное мнение не приемлет художника при жизни, и только когда он уходит из нее, начинается пересмотр наших взглядов и устанавливается иное к нему отношение.
В том, что В. Некрасов оказался на Западе, не столько его вина, сколько беда, потому как здесь ему были созданы такие условия, что человек, элементарно уважающий себя, просто не мог существовать. На вечере об этом говорили хорошо знавшие его киевляне и москвичи. Когда писателя по наущению властей подкарауливают на улице, избивают, когда в его квартире производят обыск, длящийся непрерывно почти двое суток, когда конфискуется его архив, написанное, задуманное, то ему физически существовать в этом обществе становится невозможно и он уезжает — хоть куда-нибудь... Пример Некрасова — не единственный, к сожалению. В журнале «Театр» напечатана весьма примечательная стенограмма двух заседаний — драматическая история Любимова и Театра на Таганке. Я думаю, что человеку, прочитавшему эту стенограмму или материалы суда над Бродским (в «Огоньке»), сразу станет ясно, в каких условиях работали режиссер и его театр, в каких условиях жил поэт. Можно ли в таком случае, как у нас это делалось, с легким сердцем обвинять в чем-либо художника? Мне думается, что если он не соглашается стать покорным ничтожеством, то должен реагировать доступным для себя образом. При этом следует иметь в виду, что широкая общественность мало что знает. Истинный механизм происходившего, конечно, тщательно скрывался, травля совершалась втайне, и пресса злорадно выдавала только печальное следствие, тщательно скрывая его причины.
Как было бы хорошо, если бы не было того, что, к сожалению, было, если бы наша литература развивалась так, как ей полагается развиваться в условиях цивилизованного, истинно демократического общества на основе единственно возможной для нее ценности — личности и таланта. Увы! Талант, как это у нас повелось, не гарантия признания, чаще причина и повод для поношения, побивания камнями. Гарантией признания совсем еще недавно были иные, ничего общего с литературой не имеющие качества. Может показаться, что говорить обо всем этом теперь и не следует, но не забудем, что уже в дни перестройки от члена Союза писателей исходило пожелание партийному руководству выступить с документом, подобным постановлению о журналах «Звезда» и «Ленинград».
Для меня как читателя проза Виктора Некрасова — прежде всего честный, незамутненный человеческий взгляд на войну, на проклятую и великую нашу войну с немецким фашизмом. Не знаю, каким способом удалось ему в обстановке, так мало подходящей для человечности, воспитать в себе и сохранить на десятилетия этот взгляд и эту человечность. Как он его реализовывал и отстаивал в литературе, мы знаем, мы этому были свидетелями и видели, что далось ему это ценой невероятного упорства и противостояния столь же невероятному по силе давлению среды — бытовой, литературной, партийной, государственной. Далее: для меня чрезвычайно важно, что Виктор Некрасов (может быть, первым в нашей литературе) явил миру правоту и высокую сущность индивидуальности на войне, значение личности — если не в противовес, то хотя бы наряду с правотой и сущностью класса, коллектива, общества... Хотя бы наличие индивидуальности в среде, менее всего для нее уместной, среде, какой являются война и армия с их абсолютом подчинения одного всем, жестким нивелированием всякой разности.
Виктор Некрасов увидел на войне интеллигента и, в отличие от расхожего в нашей литературе взгляда на него как на хлюпика, жизненную никчемность, человека не от мира сего, утвердил его правоту и его значение как носителя духовных ценностей в условиях, так мало способствовавших какой-либо духовности. Впрочем, это правомерно и понятно: сам будучи в высшей степени явлением духовности, он и выразил то, что должен был выразить в литературе. Наверное, это было непросто: в стране, где уничтожено крестьянство, подавлена инициатива рабочих масс, интеллигенция оказалась единственно возможным фактором духовного прогресса, и потому именно она испытывает на себе все то, что судьбой уготовано испытать историческому авангарду общества.
Читать дальше