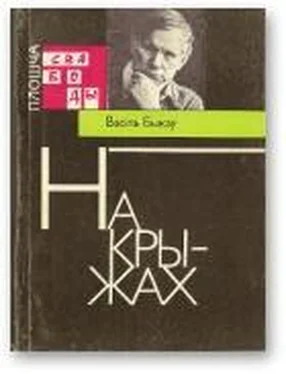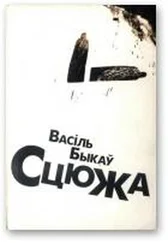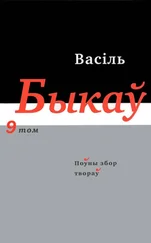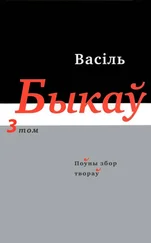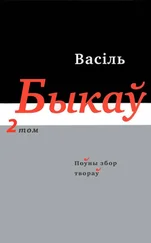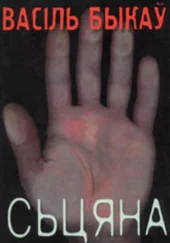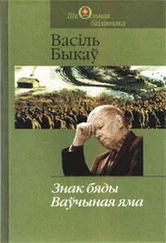До наступления темноты продолжалась охота за участниками митинга. Сотки людей получили удары дубинок, были ослеплены слезоточивым газом. Вечером организаторы позорного побоища подводили итоги.
Город забурлил. Назавтра в творческих союзах, театрах, редакциях газет состоялись собрания, на которых давалась соответствующая оценка происшедшему. Редакция молодежной газеты «Чырвоная змена» подготовила полосу о событиях вчерашнего дня, которая была снята уже в типографии (опубликована впоследствии). Городские партийные и советские власти бросились тушить разгорающийся идеологический пожар своеобразным способом: усилили нажим на непокорных, и вот уже смягчаются резолюции партийных собраний, отменяются прежние формулировки. По телевидению выступили начальник УВД и зампредисполкома города Минска. Они оправдывали свое право на запрещение митинга ссылками на два указа, недавно утвержденных Верховным Советом страны. Однако выступления этих второстепенных руководителей мало кому показались убедительными, как и их смехотворные доводы. Примечательно, однако, другое.
Принятые в понятных целях упомянутые выше указы, к сожалению, гласно не регламентируют порядок и право местных властей в отношении мотивов и процедуры запретов общественных мероприятий. Создавшийся вакуум в законоположении, как показали драматические события в Минске, открывает неограниченные возможности в их применении и безнаказанном злоупотреблении, как правило, в антидемократических целях с далеко идущими последствиями. Иначе как объяснить тот факт, что грубая воинская сила на основе Закона запрещает осуществление традиционного и святого дела народа — почтить память павших в борьбе за социализм в годы сталинских репрессий, Великой Отечественной войны, погибших в недавнее время, таких, как П. Машеров, Ф. Сурганов, многих деятелей литературы и науки.
После всего происшедшего обстановка в городе напряжена. Общественность требует расследовать инцидент и призвать к ответу виновников небывалого даже в худшие годы, целиком спровоцированного конфликта, нанесшего несомненный и ощутимый удар по делу перестройки.
В последние дни в Белоруссии стало все более ощутимым стремление общественности к созданию Народного фронта, против идеи которого с таким ожесточением выступает белорусская бюрократия. В этой связи некоторым может показаться странным (если не вздорным) ее чувство страха перед такой представительной организацией за перестройку, каким предполагается Народный фронт. Если исходить из бесспорности положения, что и у народа и у его руководителей существует единая цель — справедливое устройство жизни на основах народовластия и демократии, то спрашивается: чего бояться? Однако, по-видимому, некоторые имеют все основания для опасений за собственную судьбу — особенно из числа тех, кто явился организатором и вдохновителем событий 30 октября. Вполне может быть, что по воле народа, выразителем которой явится Народный фронт Белоруссии, им придется расстаться с насиженными местами. В свете этого факта, как мне думается, и заключены многие ответы на насущные вопросы нашего тревожного времени.
ВСТРЕЧА СО СТУДЕНТАМИ И ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ МГУ ИМ. ЛОМОНОСОВА. «ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА»
Январь 1989 г.
— Когда вы осознали сталинизм как страшное явление нашей истории? Как проходил переход в творчестве от личного лейтенантского опыта к судьбе народа, к судьбе деревни в предвоенные и военные годы?
— Может быть, это будет нескромно, но я хочу сказать, что сталинизм как явление постигался мной одновременно и параллельно с постижением жизни вообще. Я не отношусь к тем людям моего поколения (или чуть старше, моложе меня), которые узнали о преступлениях Сталина из решений XX и XXII партийных съездов или позже. В Белоруссии сталинизм постигался людьми рано, еще в пионерском возрасте. Потому что те вещи, которые в 30-х годах проходили перед нашим детским взором, были совершенно однозначны. Можно было еще поверить, допустим, что маршал Тухачевский — немецкий шпион или что шпионы другие высокие начальники. Но согласиться с обоснованностью массовых репрессий, которые совершались по отношению к простым людям, крестьянам, учителям, рабочим, мы уж никак не могли. Мы никак не могли поверить, что какой-нибудь малограмотный колхозник, трудяга, ничего, кроме земли и работы, на этой земле не знавший, является изощренным агентом трех иностранных разведок. В это никто не верил. И нам не было нужды проникать в тайную деятельность далеких «врагов народа», «вредителей» — мы у себя под носом видели этих «врагов» на примере своих соседей. И, конечно же, как и многие, не могли не задаваться вопросом: кто виноват? Безусловно, были и какие-то иллюзии, вроде той, что Сталин всего не знает, что многое происходит по инициативе местных властей. Но ведь такое происходило не только в одном районе — по всей стране, об этом писали газеты. И неизбежно вставала фигура, являвшаяся творцом всех наших побед, нашего счастья, а стало быть, и наших несчастий. Безусловно, и в то время находились люди с зашоренным взглядом, которые не могли, а кто-то из-за привилегированного положения не хотел расценивать должным образом происходившее в стране. У меня же очень рано сложилось определенное отношение к Сталину и сталинизму, которое слегка просветлело в годы войны под впечатлением наших побед над фашизмом. Но в послевоенное время оно окончательно оформилось как отношение к беспросветной диктатуре.
Читать дальше