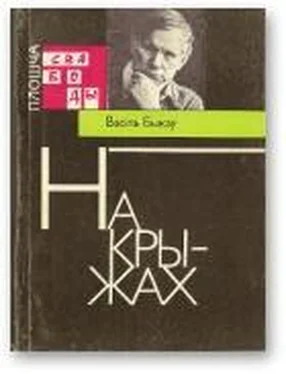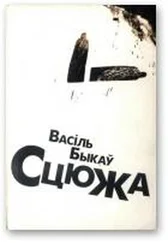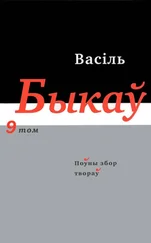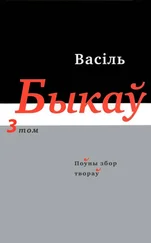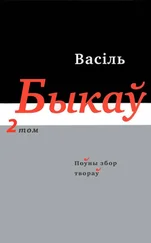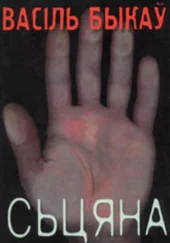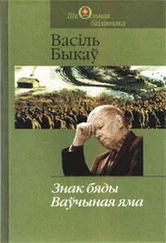Конечно, во многом В. Некрасов опередил свое время и, как нередко случается в искусстве (и не только в искусстве), в итоге за это сурово поплатился. Ибо нет пророка в отечестве своем — слова, принадлежащие земной вечности и более всего подходящие для того, чтобы значиться на его надгробии. И может ли нас утешить мысль, что не только на его надгробии. То, что случилось с Виктором Некрасовым, недавно еще было нашим национальным бытом, судьбой, главной сущностью политики государства по отношению к чести и достоинству вообще. Недавно еще казалось: иначе и не может быть, потому что иначе и не было никогда. И обелиски, кресты, струхлевшие пеньки на могилах лучших сынов Отечества рассыпались по всему необъятному пространству страны и за ее пределами — от заселенной безвестными могилами Колымы до не менее заселенного Сен-Женевьев де Буа. Что ж, мы привыкли: это наша судьба и наша история, доселе, к сожалению, еще не воплотившаяся в нашу объективную историографию.
— Как вы, военный писатель, оцениваете роман В. Гроссмана «Жизнь и судьба»?
— Значение этого романа, на мой взгляд, выходит далеко за рамки понимания военной темы. В известном смысле «Жизнь и судьба» — открытие для нашей литературы. Именно из этого романа мы узнали поразительные вещи, касающиеся удивительной схожести двух, казалось бы, совершенно противоположных систем власти в крупнейших державах Европы. Выясняется, что имперское движение в Германии номинально являлось также и социалистическим, ставящим целью построение гармонического народного государства, разве что на расовой основе: гитлеровская партия официально носила название «немецкая национал-социалистская рабочая партия»; фактической основой власти и тут, и там был открыто выраженный автократизм, обоим государствам, хотя, может, и в разной степени, были свойственны такие явления, как культурный нигилизм, власть всемогущей тайной полиции, разветвленная, не знавшая прецедента в истории земной цивилизации система концлагерей, полное попрание элементарных прав человека.
Автор «Жизни и судьбы», может быть, первым в нашей литературе осознал это сходство и с умом и блеском воплотил его в книге, уже одним этим подняв роман до уровня вершинного достижения современной литературы.
Конечно, арест «Жизни и судьбы» даже в условиях тех лет — событие чрезвычайное, но горестных историй из тогдашней творческой, издательской жизни можно припомнить множество. Мне, например, долгие годы не удавалось опубликовать ни одной вещи, которая бы не была испохаблена редактурой. Степень этой испохабленности зависела от многих причин, в том числе и от уступчивости автора тоже. Потому что в конце концов автор мог не издавать своей вещи, прекратить печатание. Но часто получалось так, что автор к моменту публикации был предельно истерзан, лишен сил и надежд, воля его была подавлена, все было немило — лишь бы закончилось поскорее-
Теперь времена изменились, от художественной литературы отстранена цензура, и это, может быть, самое значительное наше достижение, так же, как и гласность. Но как показывают события последнего времени, все это не обходится без значительных издержек: ведь гласность с еще большим успехом используется и бюрократией, которая оказывает жесточайшее сопротивление перестройке. Есть реальная опасность того, что еще несколько поворотов в определенном направлении — и гласность может потонуть, раствориться в псевдогласности, доступной только бюрократии. Я не знаю, что и как будет дальше, хотя уверен, что уроки перестройки, даже если она не будет осуществлена в том виде, в каком задумана, — уроки эти чрезвычайно важны для будущего. Наверное, в следующее столетие перейдет именно гласность как самая значительная веха нашего времени. «Все минется, а правда останется», — написал в лихое для меня время А. Т. Твардовский. Он был прав.
— В «Новом мире» ваши вещи также подвергались редакторской экзекуции?
— Понятно, что и там при редактировании старались убрать многие острые моменты, чтобы не раздражать цензуру, не вызвать дополнительно придирок, чтобы не цеплять начальственный взгляд в инстанциях. Но все-таки три повести в «Новом мире» Твардовского — «Мертвым не больно», «Атака с ходу» и «Круглянский мост» — были напечатаны с наименьшими издержками. «Круглянский мост» — совсем без купюр. «Атака с ходу» потеряла авторское название: на белорусском языке повесть известна как «Проклятая высота», но «проклятая»— уже какой-то намек, негатив, и в редакции решили дать ей нейтральное название, которое, по-моему, просто плохое.
Читать дальше