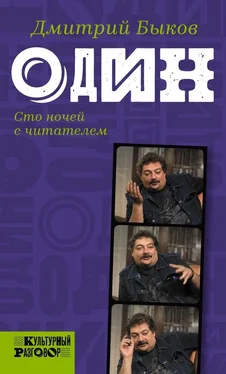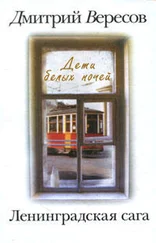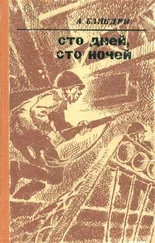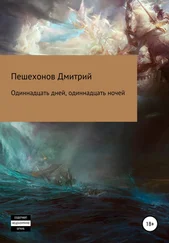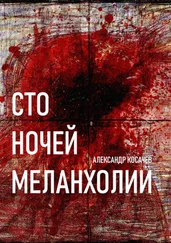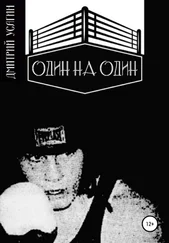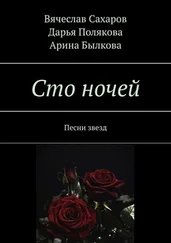«Февраль» – поэма о том, как формируется новое поколение и как оно борется за свою любовь. Это то, что Пастернак сказал:
Отсюда наша ревность в нас
И наша месть и зависть.
Вот ревность, месть и зависть и есть основа революционного мировоззрения.
Но слишком трезво и без снисхождения относиться к раннему романтическому опыту Багрицкого неправильно. Скажем, каким бы книжным ни было стихотворение Багрицкого «Птицелов», из которого такую замечательную песню сделал Никитин, в нём такая невероятная концентрация витальности, силы, очарования!
Так идёт весёлый Дидель
С палкой, птицей и котомкой
Через Гарц, поросший лесом,
Вдоль по рейнским берегам.
По Тюрингии дубовой,
По Саксонии сосновой,
По Вестфалии бузинной,
По Баварии хмельной.
Это же запоминается, это приятно говорить вслух. Вот Житинский когда-то главной приметой настоящей поэзии назвал «фоничность» – приятность произнесения вслух. И ранний Багрицкий при всей его вторичности очень музыкален, и живописен, и заразителен:
По рыбам, по звёздам
Проносит шаланду:
Три грека в Одессу
Везут контрабанду.
Берковский не зря на этот текст сделал песню. А потом, в Багрицком очень чувствуется этот провинциальный астматик, который мечтает о море, который страшно боится качки, а пишет всю жизнь о качке. Это серьёзное противоречие, на котором он стоит, – противоречие между Дзюбиным (настоящая фамилия Багрицкого) и Багрицким, которое разрывает его всю жизнь. Я же говорю: без большого внутреннего контраста нет настоящего поэта.
– Расскажите о вашем восприятии поэзии Фазиля Искандера, поскольку о его прозе многое сказано. Его «Баллада о свободе» сегодня в России опять страшно актуальна, не кажется ли вам?
– Не только «Баллада о свободе». Я вообще люблю позднего Искандера – те его стихи, которые он написал уже после восьмидесяти:
Жизнь – неудачное лето.
Что же нам делать теперь?
Лучше не думать про это.
Скоро захлопнется дверь.
Всё же когда-то и где-то
Были любимы и мы —
А неудачное лето
Лучше удачной зимы.
Искандер мне объяснил как-то в интервью, почему он после восьмидесяти окончательно перешёл на стихи. Он сказал: «Проза требует усидчивости, а за столом сейчас долго не просидишь, спина болит. А стихотворение – это коротко, это не больше часа». И вот поэзия Искандера была, мне кажется, в юности его слишком рассудочной и холодноватой, но стала великолепно насыщенной и горькой в поздние годы. Он всё-таки прозаик по преимуществу, настоящие стихи он написал тогда, когда уже проза ему стала надоедать. И они объединены в превосходный сборник «Ежевика». И похожа эта поэзия на ежевику своей колючестью, своей горьковатой сладостью, терпкостью.
Ранний Искандер, ранние его баллады очень точно спародированы Левитанским:
Да здравствуют ритмы Киплинга,
папаха, аллюр, абрек,
фазаны и козлотуры,
мангал, чебурек, чурек!
Но при этом, при всей этой экзотике и при всей, скажем так, вторичности этих интонаций его стихи афористичны. Это традиция скорее восточная. Искандер не столько лирик, сколько эпик, но это и хорошо. А вот его зрелые вещи с их горечью кажутся мне гораздо более лиричными.
А теперь – про Тынянова.
Когда-то Владимир Новиков (наверное, один из лучших российских специалистов по творчеству Тынянова) сказал, что второй такой роман, как «Смерть Вазир-Мухтара», написать невозможно, потому что дальше тупик. Мне всегда казалось (я в детстве прочёл эту книгу, лет в двенадцать), что она ближе к стихам, нежели к прозе. И действительно, форма этой книги – короткие афористические, очень резко гротескные зарисовки – сама эта форма выражает очень точно пойманное состояние – состояние, которое является синтезом трёх главных настроений.
С одной стороны, это чувство переломившегося времени – книга, если вы помните, начинается со слов: «На очень холодной площади в декабре тысяча восемьсот двадцать пятого года перестали существовать люди двадцатых годов с их прыгающей походкой (и понятно, почему «прыгающей» – торопящейся, взволнованной. – Д.Б .). Время вдруг переломилось…». Тынянов не от хорошей жизни начал писать историческую прозу. Он, как и Трифонов, прибегнул к ней как к метафоре.
Тоже довольно глубокая мысль Новикова о том, что, если бы Тынянов не ограничивался условиями цензуры, не смирял себя сам ограничением, в дальнейшем идеи «формальной школы» обязаны были перейти на социальную сферу. Они у Лидии Гинзбург уже переведены на сферу психологическую, где она пытается деконструировать, разобрать человеческое поведение, разобрать всё как систему приёмов не только искусства, но и психологическую защиту; структурализм осваивал социальную территорию в журнале «Неприкосновенный запас». Поэтому Тынянов болезненно переживает перелом времени, и слом времён является его главной темой – что в «Смерти Вазир-Мухтара», что в не понятой многими «Восковой персоне».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу