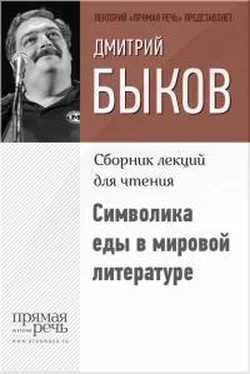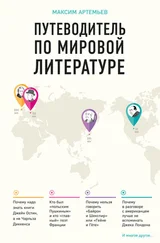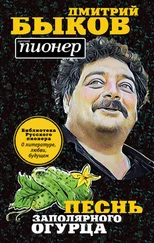А потом, наконец, самая страшная реплика, олицетворяющая всю пошлость жизни, это, конечно, в «Даме с собачкой», когда Гуров хочет с кем-то поговорить о своей любви, о ее прелести, мы слышим: «Осетрина-то была с душком, Дмитрий Иванович…» И эта осетрина с душком становится символом такой же протухшей, несчастной, зловонной жизни.
Поздние чеховские герои не едят, и это огромное их заблуждение. Это очень важный перелом в Чехове, единственное, что в нем по-настоящему изменилось. Поздние чеховские чревоугодники всегда неприятны. Если они хотят поесть крыжовника, то это уже преступление. Я помню, каких я сподобился критических стрел за статью «Господи, спрячь меня в крыжовник», где речь шла о том, что ничего нет греховного в желании завести свой крыжовник, ничего нет дурного в том, что у тебя есть вишневый сад и пусть ты при этом человек прошлого, пусть ты вымирающий класс. А как хорошо было, когда вишню и сушили, и мариновали, и варили, и чего с ней только ни делали! А как хорошо, когда ты мечтаешь иметь свой крыжовник! Конечно, там герой уморил жену, и он этим сильно скомпрометирован в наших глазах. Но как это хорошо, понимаете, мечтать в жизни о том, чтобы у тебя была скромная «фазенда», скромная дачка. Конечно, он мерзавец, потому что он говорит: «Мы, как дворяне, мы, как землевладельцы…» Но если бы он этого не говорил, если бы он просто обустроил кусок земли, если бы каждый обустроил свой кусок земли, разве это было бы нехорошо? А разве прав Чимша-Гималайский, который в этой же трилогии «Крыжовник. О любви. Человек в футляре» говорит: «Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные…»
Ну и стучат эти люди своими молоточками и пробивают головы насквозь. И в 1917 году пробили всю страну таким образом. Да, есть несчастные. Поэтому и ты не смей быть счастливым. Но ничего хорошего не вышло. Просто это все к тому, что когда у Чехова мы читаем про Чимшу-Гималайского, мы ни на секунду не забываем, что от его трубочки исходит очень неприятный запах, не дающий уснуть. И он противно, тоненько сопит носом, спать около него невозможно. Это не храп, а сипение.
У Чехова всегда герои, произносящие такие пафосные сентенции, снабжены какой-то неприятной чертой. Помните, Саша из «Невесты», например? Какой положительный герой умирает от чахотки! Революционер. Борется. Но он длинно и многословно шутит, а когда говорит, все время тыкает собеседника в грудь двумя пальцами для убедительности. То, что Олеша называл «железные пальцы идиота». Ничего приятного в этом нет. И поэтому у Чехова «Крыжовник» – самый амбивалентный, наверно, рассказ. Человека в футляре и то жалко, хотя там сказаны страшные слова: «Признаюсь, хоронить таких людей, как Беликов, – это большое удовольствие». Действительно. Но в «Крыжовнике» жалко этого человека, который, накрывшись одеялом, похож на свинью, которая вот сейчас хрюкнет. И он вытягивает губы, ест этот крыжовник и говорит: «Посмотри, как вкусно». А на самом деле и жестко, и кисло. И в это ушла вся жизнь. Но он был бесконечно умилен: «Это мой крыжовник».
Ну и что плохого? Есть у человека его крыжовник. Он же не хочет себе каких-то наполеоновских планов, он хочет, чтобы у него был крыжовник! Теперь уже и этого, оказывается, нельзя.
Конечно, я понимаю, что Турков, который на меня тогда набросился, заслуженный «новомирский» критик, и, как ученик Твардовского, он имеет право раздавать любые ярлыки, я его люблю очень. Но какая-то правда, наверное, была тогда и за мной, потому что жесткий и кислый крыжовник – это все-таки лучше, чем человечина, которой готовы питаться борцы за всеобщее счастье.
Естественно, тут возникает вопрос: как изменилась поэтика еды в ХХ веке? В ХХ веке еды стало мало. И поэтому умение вызвать у читателя судорогу голода стало цениться очень высоко. Солженицына многие оценили именно потому, что в «Одном дне Ивана Денисовича» судороги голода, муки голода описаны так, что отдыхает любой Гамсун. Все люди, которые впервые читали «Один день Ивана Денисовича», неудержимо рвались на кухню, отрезали себе кусок хлеба, посыпали его солью и немедленно сжирали. Об этом эффекте вспоминал Твардовский, который на ночь взял полистать рукопись и не оторвался от нее до утра. А среди ночи побежал на кухню за черным хлебом. И об этом же эффекте рассказывала мне Слепакова. Она рассказывала о том, как она матери дала почитать 9-й номер «Нового мира» за 1962 год и ночью услышала, как мать тяжело ходит по кухне и отрезает себе кусок буханки. Невозможно, читая «Один день Ивана Денисовича», не сожрать кусок хлеба. Кстати, подобное ощущение было у меня в свое время от «Республики ШКИД», где тоже муки голода описаны, я вам скажу, неслабо. А Солженицын умудрился так описать вот этот один кусочек колбасы (твердой копченой), который из посылки Цезаря Марковича достался Ивану Денисовичу, и он полчаса его на ночь катает во рту, высасывая мясные соки, – он умудрился описать это с такой физиологической достоверностью, что это, как было сказано у Багрицкого: «Рычи, желудочный сок!». Здесь еда, как ни странно, стала представать универсальной ценностью. Мало того, что это всех нас роднит, но это еще в огромной степени делает человека человеком. Когда он лишен еды, он превращается в зверя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу