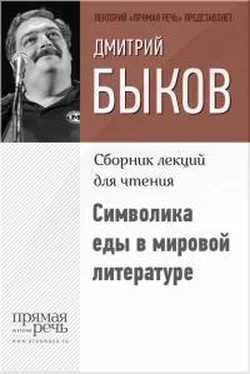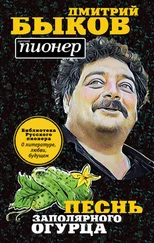Это гениально, конечно! Он встречает его, как победителя, заказывает шикарные блюда, потому что стерлядь внушит нам нежность, потому что оленина внушит нам дружественность. Потому что капуста подарит нам тоже напоминание о воинских добродетелях. А потом в этот момент я выхвачу пистолет и убью узурпатора.
Для Окуджавы еда – часть ритуала дружбы. Ведь почему «…белый буйвол и синий орел и форель золотая», да? Это все участники повседневного ритуала жизни, сельского ритуала. И, конечно, форель золотая здесь далеко не последняя, да, ее действительно едят в порядке диалога с ней о спасении души. Именно поэтому Окуджава так любил готовить. Любил готовить суп, например. Белла Ахмадулина вспоминала: «Как странно было позвонить Булату и услышать: – Булат, что ты делаешь? – Я варю суп. – Как это можно?! Булат, который слышит небесные звуки, варит суп!».
А для него суп был делом очень важным. Еще Окуджава обожал сам мыть посуду. И когда его спрашивали, почему, он отвечал: «У нас не так много возможностей сделать мир чище».
(смех в зале)
Дима, скажите, в вашей новой книге есть ли описание еды и, если можно, процитируйте, пожалуйста.
Подождите. Мне для этого надо ее разрезать. Понимаете, в ней есть соответствующая лексика. Я наизусть не все помню. Я эту книгу еще в руках держу…
Своими словами.
Нет уж, слушайте. Ничего не поделаешь.
Дмитрий Львович сейчас продемонстрирует, как феноменально он ориентируется в своей книге…
Я не продемонстрирую. Я не все там помню. У меня в этой книге практически нет еды. А, нет! Есть одно стихотворение про ресторан. Я его прочту, и на этой оптимистической ноте мы с вами разбежимся раскупать, напоминаю, книгу…
В Берлине, в многолюдном кабаке,
Особенно легко себе представить,
Как тут сидишь году в тридцать четвертом,
Свободных мест нету, воскресенье,
Сияя, входит пара молодая,
Лет по семнадцати, по восемнадцати,
Распространяя запах юной похоти,
Две юных особи, друг у друга первые,
Любовь, но хорошо и как гимнастика,
Заходят, кабак битком, видят еврея,
Сидит на лучшем месте у окна,
Пьет пиво – опрокидывают пиво,
Выкидывают еврея, садятся сами,
Года два спустя могли убить,
Но нет, еще нельзя: смели, как грязь.
С каким бы чувством я на них смотрел?
А вот с таким, с каким смотрю на всё:
Понимание и даже любованье,
И окажись со мною пистолет,
Я, кажется, не смог бы их убить:
Жаль нарушать такое совершенство,
Такой набор физических кондиций,
Не омраченных никакой душой.
Кровь бьется, легкие дышат, кожа туга,
Фирменная секреция, секрет фирмы,
Вьются бестиальные белокудри,
И главное – их все равно убьют.
Вот так бы я смотрел на них и знал,
Что этот сгинет на восточном фронте,
А эта под бомбежками в тылу:
Такая особь долго не живет.
Пища богов должна быть молодой,
Нежирною и лучше белокурой.
А я еще, пожалуй, уцелею,
Сбегу, куплю спасенье за коронку,
Успею на последний пароход
И выплыву, когда он подорвется:
Мир вечно хочет перекрыть мне воздух,
Однако никогда не до конца:
То ли еще я в пищу не гожусь,
То ли я, правду сказать, вообще не пища.
Мир будет умирать и возрождаться,
Неутомимо на моих глазах,
А я – именно я, такой, как есть,
Не просто еврей, и дело не в еврействе,
Живой осколок самой древней правды,
Душимый всеми, даже и своими,
Вечно бегущий из огня в огонь,
Неуязвимый, словно в центре бури, –
Буду смотреть, как и сейчас смотрю:
Не бог, не пища, так, другое дело.
Довольно сложный комплекс ощущений,
Но не сказать, чтоб вовсе неприятных.
(аплодисменты)
Спасибо.
Пундики – сладости.
Вытребеньки – причуды.
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу