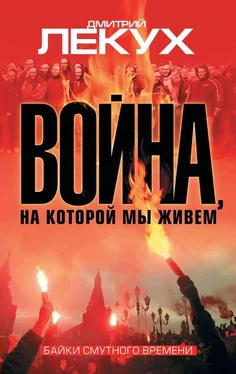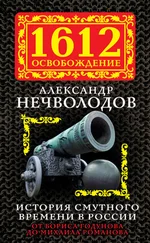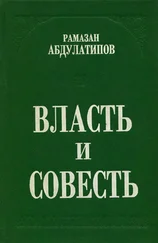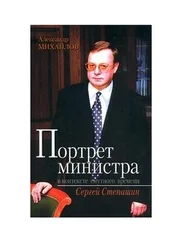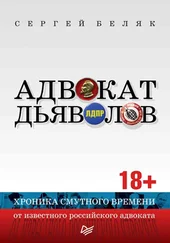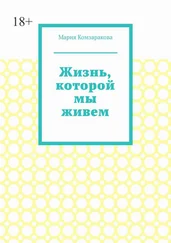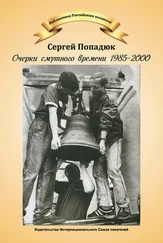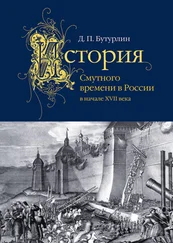Современным языком говоря: дикая проблема с коммуникациями. В том числе — с обществом.
Власть в прямом смысле этого слова держится исключительно на гвардейских штыках. Кои штыки время от времени развлекаются тем, что устраивают не менее гвардейские государственные перевороты.
И вдруг — Пушкин.
Начинавший, кстати, писать вполне себе «высоким штилем», но потом по каким-то причинам делать это задолбавшийся и поступивший, по лености душевной, предельно просто: взял родные для себя московский и псковской устные региональные диалекты да и наложил на них очень удобную и вбитую — в прямом смысле этого слова розгами в Царскосельском лицее — французскую грамматику.
И все.
«Я памятник себе воздвиг нерукотворный».
Не прибавить и не убавить.
Такие дела…
Вы, кстати, обращали внимание, что Пушкина, мягко говоря, не так уж охотно переводят на другие языки?
В отличие от Лермонтова, Гоголя или, тем более, замусоленных в западных университетах и колледжах Толстого и Достоевского.
Ничего удивительного: вне пределов созданного самим же Пушкиным русского литературного языка художественная ценность большинства его текстов временами, извините, довольно сомнительна, и в переводах — без волшебного и, похоже, принципиально непереводимого пушкинского языка — он неинтересен и вторичен. Таких «эпигонов великого лорда» в той же германской поэзии современной Пушкину эпохи — пучок за пятачок, извините за некоторую бестактность по отношению к «нашему всему».
Но факт остается фактом: не переводят его именно поэтому. Вне контекста русского литературного языка Пушкин, к сожалению, не интересен. Потому что он просто гений этого самого современного русского литературного языка как языка межрегионального и межнационального общения, языка, который воспринимается как родной от Карпат до Владивостока.
Более того, его фактический создатель.
Вот и все.
По-моему, достаточно.
Сознание человека современного удивительно фрагментарно, ассоциативно и, я бы даже так сказал, простите за невольный неологизм, «клипообразно».
Я вот недавно на одной тусовке брякнул, что в ближайшие выходные собираюсь ехать покупать стол на дачу.
Завалили советами: материал, производители, дизайн.
Это то, чем интересуется современный покупатель, а любой современный человек это, к сожалению, прежде всего — покупатель.
Остальное — неважно.
И даже несмотря на тот вопиющий факт, что я, через некоторое время взвыв от количества добровольных советчиков и помощников, громко объявил, что в советах не нуждаюсь и вообще собирался покупать не обеденный стол, а журнальный столик в кабинет на втором этаже, народ все продолжал и продолжал подходить с советами…
Это я к тому, что в России не все, что зовется Владимиром Владимировичем, обязательно работает главой правительства.
Есть еще и другие.
Был, к примеру, такой Маяковский.
И ему 7 июля сего года исполняется то ли сто семнадцать, то ли сто восемнадцать лет. Точный год своего рождения Владимир Владимирович не знал и сам: писал, что мнения мамы и данные послужного списка отца расходятся.
А что вы хотели? Он же в Грузии родился. В селе Багдады Кутаисского района, в семье лесничего.
А там до сих пор в той же юношеской сборной этой страны по футболу такие лбы носятся, что смотришь на его лысину и думаешь: кому верить? То ли собственным глазам, то ли паспорту этого ни от кого не зависимого государства, прости меня Господи. В котором, в паспорте то есть, черным по белому записано, что этому дядьке с пивным брюхом аккурат как вчера неполные шестнадцать исполнились. Ну, там — плюс-минус семь-восемь.
Все как всегда.
Вот и с Маяковским такие же дела: ну, ждали ребенка в том году, родился в этом — это что, повод отказываться от пособия за год предыдущий?!
Ну, вы даете. В Грузии такого только не предлагайте. Не поймут…
Хотя таким, как Маяковский, вообще, собственно говоря, пофиг, когда и где рождаться.
Им даже не важно, где и как умирать.
Не говоря уж о таких подробностях, как детство в глухом грузинском селе, отсидка в Бутырке «за политику», первые «рекламные креативы» в России (включая хрестоматийное «нигде кроме как в Моссельпроме», и первая в Москве частная иномарка «Рено», пригнанная поэтом аж из самого города Парижу.
Я хочу
быть понят моей страной,
а не буду понят, —
что ж,
по родной стране
пройду стороной,
как проходит
косой дождь.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу