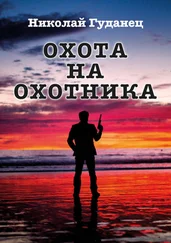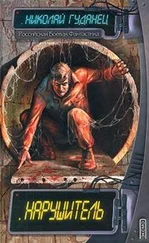Эти две фразы давно зацитированы в лоск. Их ошарашенно трактовали и так, и сяк, пытаясь сопоставить со строчками о «карающем кинжале» (II/1, 173) и «кровавой чаше» (II/1, 179), но при этом, Боже упаси, не уличить « неизменно искреннего » Пушкина в грубой лжи.
А он-то знал, что не вкладывал в свои якобы революционные стихи южного периода никакого общественного звучания и гражданского пафоса, но выразил сугубо личные чувства. Его попросту не так поняли.
Разумеется, стихотворение «Кинжал» пришлось по вкусу революционерам-заговорщикам и стало крайне популярным в их среде.
Декабрист И. Д. Якушкин поведал в своих записках: «все его ненапечатанные сочинения: „Деревня“, „Кинжал“, „Четырехстишие к Аракчееву“, „Послание к Петру Чаадаеву“ и много других были не только всем известны, но в то время не было сколько-нибудь грамотного прапорщика в армии, который не знал их наизусть» 94.
Деревянная, выспренная риторика «Кинжала», видимо, в аккурат соответствовала эстетическим запросам и душевному складу вольнолюбивых прапорщиков.
Но еще, на беду, стихотворение «Кинжал» оказалось воспринято в столичных кругах как подметное бунтарское стихотворение, грубо нарушающее «обещание уняться» 95, данное Пушкиным в апреле 1820 г. Н. А. Карамзину. Свидетельства об этом сохранились в переписке самого Карамзина, а также П. А. Вяземского и А. И. Тургенева. Наличие уговора не отрицал и проштрафившийся поэт: «Я обещал Н.<���иколаю> М.<���ихайловичу> два года ничего не писать противу правительства и не писал». (XIII, 167).
Обсуждение взаимоотношений Карамзина и Пушкина займет слишком много места и уведет далеко в сторону от линии повествования. Но следует подчеркнуть одно крайне странное обстоятельство.
Известно, почему Н. М. Карамзин выдвинул условие, при котором он возьмется спасать заплаканного Пушкина от Сибири: впредь воздержаться от крамольных стихов. «Иначе я выйду лжецом, прося за вас и говоря о вашем раскаянии» 96, — четко разъяснил он.
Тем не менее, и года не прошло, как Пушкин нарушил честное слово дворянина и подвел Карамзина.
Процитированные выше слова из письма В. А. Жуковскому (апрель 1825 г.) « Кинжал не против правительства писан» беспомощно апеллируют к формальному содержанию нарушенной клятвы: не писать ничего, « противного правительству ». Так может оправдываться в кабинете завуча школьник, прикидывающийся дурачком, но для гиганта русской словесности подобная уловка вдвойне постыдна. Если наши предположения верны и поэт считал это кровожадное стихотворение своим личным делом, он все же не мог не понимать, каким опасным подстрекательским пафосом сверкает «Кинжал».
В довершение безнадежной путаницы следует сослаться на слова самого Пушкина. Как рассказал Н. И. Лореру брат поэта Лев, на аудиенции в Чудовом дворце 8 сентября 1826 г. Пушкин заявил царю: «Ваше величество, я давно ничего не пишу противного правительству, а после „Кинжала“ и вообще ничего не писал» 97. Неужто брат Левушка вольно импровизировал ради красного словца?
Но тут существенно другое. Пушкин сначала нарушил оговоренный двухлетний срок, а через полтора года после высылки он дал слово уже себе, « закаялся » и неукоснительно соблюдал зарок всю жизнь. Странно, весьма странно.
Крутые виражи в поведении Пушкина принято объяснять буйным африканским темпераментом романтика, которому море по колено. Однако мы уже подметили, что вспыльчивый потомок Ганнибала всласть раздавал оплеухи молдавским боярам, но ни в коем случае не русским офицерам. Неистовый пиит умел обуздать себя и не выходить за намеченные рамки. Что же касается гражданственных стихов и политических высказываний, бросается в глаза возведенная в квадрат непоследовательность. Сначала поэт выказывает отменную храбрость камикадзе, а впоследствии, наряду с безрассудством и взбалмошностью, проявляет предельную осмотрительность и выдержку.
Что ж, когда выяснится, почему певец либерализма навсегда «закаялся», поводы для недоумения пропадут.
Итак, нарушивший честное слово Пушкин потерял своего самого крупного заступника (Карамзин был вхож к императрице без доклада) и уже не смел обращаться с просьбами к оскорбленному Николаю Михайловичу. Но он крайне нуждался в том, чтобы за него замолвила словечко влиятельная, приближенная к императорскому двору персона.
* * *
«Разумеется, Пушкин, отзывчивый и благодарный, навсегда сохранит теплые воспоминания о том, как Карамзин, и не он один, а также Жуковский, Чаадаев, Федор Глинка, Александр Тургенев спасли его от такой участи, которая могла привести к надлому и гибели», — пишет Н. Я. Эйдельман 98.
Читать дальше
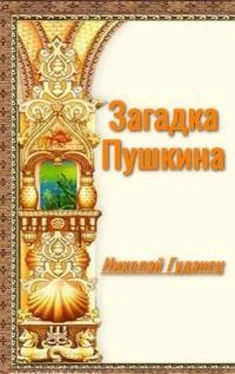
![Николай Гуданец - Агент Омега-корпуса [антология]](/books/28655/nikolaj-gudanec-agent-omega-korpusa-antologiya-thumb.webp)