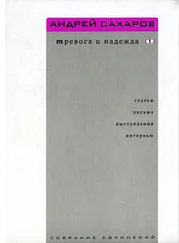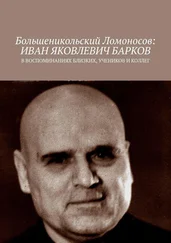Никаких заданий своим ученикам Иван Яковлевич не давал, и каждый делал что и как хотел, но время от времени он устраивал очень интересные конкурсы со скромными премиями, имевшие целью связать учебу с живой текущей жизнью. Припоминаю конкурсы на художественную этикетку для папиросной коробки, на типовую обложку для журнала "Театр и искусство" и, наконец, на плакат для Выставки гигиены, намеченной к открытию в Петербурге. В этом конкурсе я получил вторую премию.
Надо сказать, что Петербург эпохи, предшествовавшей первой мировой воине, был колыбелью и средоточием блестящей русской графики. Имена И. Я. Билибина, Е. Е. Лансере, А. Н. Бенуа, М. В. Добужинского, С. В. Чехонина, В. Д. Замирайло, П. Е. Щербова и других навсегда вошли в фонд русской графики. Москва же во главу угла ставила ряд своих блестящих живописцев, а на графику, например, Билибина смотрела или свысока, или с недоумением, хотя и здесь появились было подражатели его манере, конечно же, поверхностные и беспомощные.
Время с 1919 по 1922 год я провел на Западе, в Белоруссии, где шла война с белополяками Пилсудского. Там я узнал, что Билибин эмигрировал, и я потерял его из виду.
Потом я целиком ушел в газетно-журнальную работу, "отдыхал" от нее на работе в театрах, которым обязан очень многим, что я знаю и умею делать.
В конце 30-х годов у меня в Москве часто останавливался К. И. Рудаков, когда приезжал сюда сдавать очередную работу, и вот однажды он порадовал меня, сообщив, что в Ленинград вернулся из эмиграции И. Я. Билибин и занял место профессора в Академии художеств. Через некоторое время я получил от Ивана Яковлевича письмо, в котором он писал, что наслышался от Рудакова о том, что у меня в квартире имеется диван, всегда готовый к услугам друзей и близких, и он, Иван Яковлевич, спрашивает, может ли воспользоваться этим диваном, так как ему необходимо быть в Москве, а обосноваться в гостинице вряд ли удастся, поскольку в Москве происходит какой-то большой съезд.
Конечно же я, обрадованный и польщенный, ответил горячим согласием и в обусловленное время встретил своего старого и постаревшего учителя, который приехал на несколько дней, чтобы сдать свою новую работу — "Песню про купца Калашникова".
Деликатнейший Иван Яковлевич уходил утром и появлялся лишь к вечеру, "чтобы не занимать собою хозяев", как объяснил он. Конечно, я попросил, и он показал мне "Калашникова", который очаровал меня своим мастерством и законченностью, своим полным созвучием с певучими стихами Лермонтова.
Наступил канун дня возвращения Ивана Яковлевича в Ленинград, и вечер этого дня за скромным ужином, на котором была открыта бутылка шампанского, мы посвятили взаимным воспоминаниям. Он рассказывал о своих скитаниях по Европе, рассказывал, как в Каире он расписывал русскую баню для греческого богача, рассказывал о поездках по странам Ближнего Востока, показал фотографии некоторых своих зарубежных работ. В числе их я обратил особое внимание на небольшую фотографию с эскиза тиары для архиепископа Парижского, исполненного в стиле "а-ля рюсс" в традиционной билибинской манере, мало чем отличавшейся от его "Сказок".
Здесь у нас завязался интересный разговор, которому задал начало я и который навсегда сохранится в моей памяти.
Сохраняя тон большого уважения к учителю, я заметил ему, что вот, мол, вспоминая его работы периода "Русских народных сказок" и сравнивая их с "Купцом Калашниковым", я не вижу большой разницы между Билибиным начала века и Билибиным 1938 года; неужели прожитые годы, странствия по Европе, Азии и Африке, все эти годы, прожитые на чужбине, вдали от Родины, никак не повлияли на его творчество и он, как и раньше, подписывает тем же полууставом свои рисунки, выполненные в той же манере, изменяя лишь обозначение года, когда была выполнена работа.
Очевидно, не я первый задал ему подобный вопрос, и Иван Яковлевич спокойно и с большим достоинством сказал мне, что глубокое изучение памятников русского народного искусства явилось ценнейшим фондом, которым он все время пользуется в своих работах, и что он будет пользоваться им до конца своей жизни, так как он неисчерпаем. Он не перестает удивляться и гордиться богатством и разнообразием творчества народных мастеров и ставит своей целью популяризировать и прославлять его в своих работах.
"Мои "Русские народные сказки" навсегда определили дух и направление всех моих работ, а это, в свою очередь, создало мне известную репутацию, привлекавшую спрос на мои работы. Как вы думаете, — сказал он, — должен ли и мог ли я, имел ли я право не ответить полной отдачей тому, чему я посвятил свои работы? Конечно, не имел права и не хотел этого. И заметьте — Г осу дарственное издательство могло бы поручить мне и "Демона" и "Мцыри" того же Лермонтова, но заказало именно "Купца Калашникова", ибо знало, что мне, Билибину, он ближе по своему духу и строю. Да и архиепископ Парижский, заказавший мне эскиз тиары для себя, обратился ко мне лишь потому, что, имея, может быть, десятки тиар всевозможных рисунков и стилей, он не имел тиары "а-ля рюсс", которую, по его мнению, мог ему сделать только я. И я почитал своею святой обязанностью полностью оправдывать то доверие, с которым обращались ко мне, поручая ту или иную работу, так или иначе связанную с моей "репутацией". Представьте себе такой случай: вы взяли билет на концерт Шаляпина, зная наперед, что услышите в его исполнении и "Персидскую песнь" и "Как король шел на войну", вещи, которые вы уже, может быть, слышали не раз в его исполнении. И вдруг, вместо ожидаемых от него вещей, он спел бы несколько цыганских романсов и арий из оперетт! Пусть он спел бы их даже блестяще — он все мог, но вы были бы разочарованы, вы были бы обмануты в своих ожиданиях, не правда ли? Так и со мной: если мне поручают ту или иную работу, я всегда стараюсь точно ответить на то, чего от меня ждут. Что же касается моей кажущейся ограниченности, то когда вы будете в Ленинграде, то приходите ко мне, и я покажу вам то, что я показываю своим друзьям".
Читать дальше