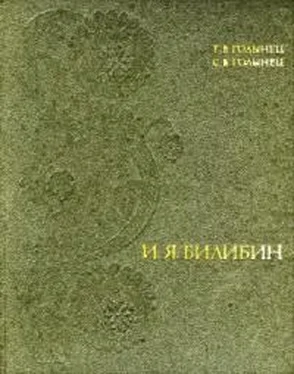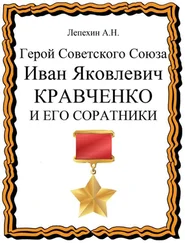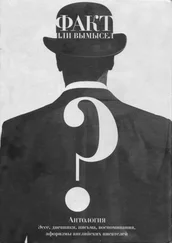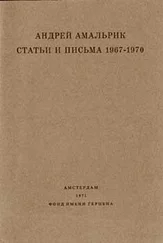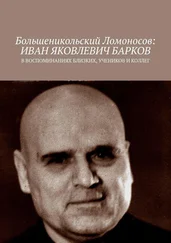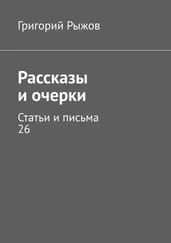Я тогда поступил в школу Общества поощрения художеств.
Когда я разложил свои домашние рисунки перед Н. П. Химоной, бывшим тогда инспектором школы, он предложил мне приготовительный класс. Мне было девятнадцать лет, и я, смутившись, заметил ему, что мне неловко быть среди приготовишек, на что Николай Петрович ответил, что среди приготовишек я могу встретить и не таких еще дядей, как я, а потом мягко добавил, что до третьего, "головного" класса перевод в следующие классы производится в любое время, что целиком зависит от успехов учащегося.
Уже ко второму полугодию я был переведен в третий, "головной" класс, дававший право посещать, кроме общерисовальных, еще и специальные классы, которые при ближайшем знакомстве с расписанием оказались — увы! — недоступными, так как проходили днем, когда я находился на службе. Однако я высчитал, что если по окончании службы быстро пробежать расстояние от Красного моста до Мойки 83, то два раза в неделю я смогу посещать занятия, которые в расписании назывались графическим искусством. Я уже знал, что вел их И. Я. Билибин, тот самый волшебник, перед книжками которого я стоял очарованным у витрины магазина.
Думаю, что не нужно говорить, с каким трепетом я впервые вошел в комнату, где, как мне представлялось, сидят ученики и рисуют, а их "обучает" И. Билибин, ставший уже для меня легендой.
В действительности все оказалось иначе: никто не сидел и не рисовал, а все столпились у одного стола, окружив плотной стеной человека, который мне сначала не был виден и только голос которого, слегка заикающийся, я слышал. Этот спокойный голос обсуждал работы и тут же делал необходимые указания, скорее, даже советы, которые давались в корректной и уважительной форме, что я тут же отметил про себя.
Поработав немного локтями, без чего пробраться к столу, чтобы видеть и слышать, о чем идет речь, было невозможно, я увидел, наконец, говорившего. Это был высокий, очень ладный мужчина лет тридцати с небольшим. Лицо его напрашивалось на сравнение с ликами древних русских икон, так строги и спокойны были его черты. Одет он был в безукоризненный черный сюртук. Все, вместе взятое, создавало впечатление, что автор рисунков к русским народным сказкам и не может быть иным. Таким он навсегда и запечатлелся во мне, несмотря даже на то, что при моем свидании с ним почти тридцать лет спустя он выглядел несколько иначе, когда на смену черным как смоль, гладко причесанным волосам появилась коварная седина, при которой от прежнего правильного прямого пробора не осталось и следа, а знаменитая билибинская очень ухоженная борода перестала быть тем, что делало его лицо очень русским.
Огромный труд Билибин посвятил изучению на местах древнего русского искусства; он изъездил северные русские города, буквально впитал в себя неповторимое своеобразие русской архитектуры, стал знатоком работ вологодских и торопецких кружевниц, исчерпывающе изучил древние вышивки, парчи и ткани и, как следствие этого, стал непререкаемым авторитетом в области подлинного русского орнамента. Свои богатейшие познания он "выдал" в виде ряда картин и образов высокой художественной выразительности, облеченной в форму еще до него невиданную. Вот откуда идут истоки билибинской графики! При всем этом Билибин — человек очень высокой культуры, в самом широком понимании — прекрасно знал античное и западное искусство и в своих занятиях с учениками очень корректно воздерживался от навязывания своих вкусов и убеждений, следя лишь за тем, чтобы представляемые учениками работы несли на себе печать искусства.
Среди его учеников в мое время я вспоминаю Щекатихину, О’Коннель, Дубенскую и Сабурову, а из мужчин — Хортика, Кайсарова, Розилехта и известного впоследствии Егора Нарбута. Все они были "хорошие и разные", и ни один из них не подражал учителю, не перенимал его почерк, каждый шел своим путем и имел свои средства выражения, и каждому из них руководитель умел дать советы и указания, руководствуясь его индивидуальностью.
Билибину нельзя было подражать, у него можно было только учиться, и если говорить об отдельных моментах "подражания", то у многих оно выражалось в том, например, что мы, подобно учителю, предпочитали работать, даже в самых тонких работах, не пером, а кистью, считая, что кисть дает более плавную, певучую и сочную линию. Однако и тут Иван Яковлевич предостерегал от механического перенимания приемов, указывая как на очень хороший пример владения пером на работу Нарбута.
Читать дальше