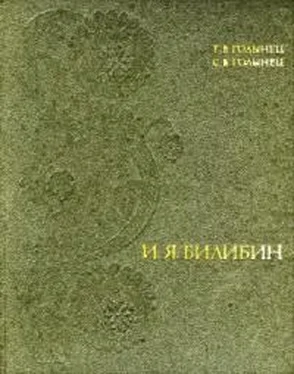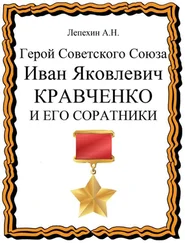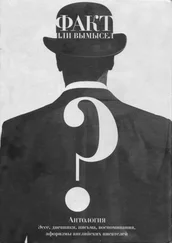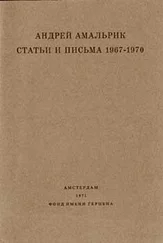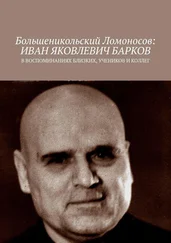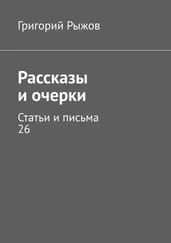Бродили мы по Крыму довольно много и пешком, и верхом, и на линейках, и в экипажах с зонтиком, и в простых татарских мажарах (способ передвижения уже не существующий, но приятный). Ездили мы на Ай-Петри верхами смотреть заход и восход солнца. Но не обычной дорогой туристов из Ялты, а из Байдарской долины через гору Кара-Даг по Яйле, по ее живописным карстовым воронкам и лункам с многочисленными чабанами и злыми и мудрыми овчарками. На Южный берег с Ай-Петри мы не спустились, презирая курортный характер Ялты и ее модную суету сует.
Мы ночевали на Ай-Петри у костра. Компания наша состояла из батилиманской молодежи, дочерей и сыновей В. Д. Дервиза, Е. Н. Чирикова, Н. Н. Шнитникова. Иван Яковлевич был самый старший из нас, но не самый старый по характеру.
Помню также совершенное нами большое путешествие пешком около сорока верст. Прошли мы от Батилимана в Скеле и на другой день из Скеле через Шайтан-мердвеи (Чертову лестницу) в Мшагку, Форос, Тессели и через Ласпи обратно в Батилиман. К концу похода все стали очень веселые, особенно Иван Яковлевич, так как везде владельцы винных погребов первым делом угощали нас вином. Пробовать вино было обязательно. До поры до времени Иван Яковлевич был необычайно весел, пел со всеми русские песни, которых знал множество, и веселил всю компанию, а главное, сам веселился.
Любил он песню, записанную в Весьегонском уезде Тверской губернии:
Прилетели пташечки,
Да, во зеленый сад,
Щипали, клевали
Спелый виноград.
Щипали, клевали,
Веточки бросали
Да Ване на кровать.
Спишь ли ты, Ванюшко,
Али так ляжишь?
Не сплю, не сплю, милая,
Думу думаю,
Думаю, гадаю,
Хочу женицы на тебе. . .
Так летние месяцы проводили мы в Крыму. Домик был достроен, сделана цистерна для воды, посажен виноградник, магнолии и розы. До 1917 года приезжали мы в Батилиман, иногда оставались до поздней осени. В 1917 году Иван Яковлевич остался один и некоторое время жил анахоретом. Ветер революции изменил многие судьбы, разлучил или соединил многих людей.
Этнограф и антиквар
По иллюстрациям Билибина видно, как он любил русскую природу. Каждый год он ездил по стране в глухие места или старинные русские города. С особым чувством вспоминал он Валдай и Весьегонский уезд. Там, говорил он, холмистые места, темные леса, отраженные в реках и озерах, березовые рощи. Этот пейзаж можно видеть в его иллюстрациях к былине "Вольга", к сказке "Белая уточка" и других.
Однажды, когда мы приехали с ним в Ростов Великий и любовались там древней архитектурой и знаменитыми расписными воротами, монах- экскурсовод предложил нам послушать малиновый звон. Это делается следующим образом. Вы берете лодку и выезжаете на середину озера Неро, откуда виден город с его церквами, куполами, звонницами и домами. К вечеру, когда солнце все это освещает розовым светом и город на холме выглядит совершенно как написанный иконописцем в одном из иконных клейм, раздается мелодичный звон, он дрожит в воздухе и растекается в тишине над водой, а потом становится гуще и сильнее. Вот такую красоту мы испытали на себе. Не отсюда ли городок в декорации Билибина к "Царю Салтану"?
Двухтысячепудовый колокол ростовской звонницы под именем Сысой существует и сейчас (недавно ростовский колокольный звон был записан на пленку для воспроизведения в фильме "Война и мир").
Фотографии и зарисовки Ивана Яковлевича из его странствий по северу России, Вологодской, Олонецкой и Архангельской губерниям вошли в "Историю русского искусства" под редакцией Игоря Грабаря, а его собрание предметов быта русского крестьянина в коллекции этнографического отдела, тогда только что организованного в пристройках новых галерей при Русском музее. Коллекция состояла из множества предметов. Это были расписные прялки и туеса, части деревянной резьбы, набоечные и пряничные доски, печатанные с досок лубочные картинки и деревянная скульптура. Большое и ценное собрание вышивок, представлявших настоящую историю русского орнамента. Кружева так называемых подзоров, на которых были изображены фантастические города, упряжки с каретами, целые сцены, праздники и фейерверки. И, наконец, одежда: парчовые и холщовые с набоечным узором сарафаны, летники, платки и кокошники. У Ивана Яковлевича дома имелось шесть полных комплектов русских женских костюмов с головными уборами, хранившихся в кипарисового дерева сундуке, купленном в Бахчисарае. Сундук был турецкой работы, старинный, с перламутровой инкрустацией.
Читать дальше