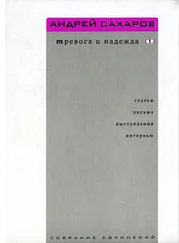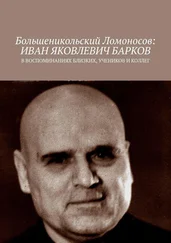На одной из режиссерских сценических репетиций первого акта я заметил у правого портала сцены незаметно появившегося из первой кулисы и скромно там стоявшего Ивана Яковлевича и пригласил его к режиссерскому столику. Билибин посидел с нами до конца первой половины репетиции и в перерыве направился с Владимиром Аполлоновичем в артистическую баритоновую уборную. В артистической комнате, закуривая, Лосский обратился к задумавшемуся Билибину: "Вы, кажется, чем-то озабочены, Иван Яковлевич?" — "Да, да, я пришел поделиться с вами, — ответил Билибин, — по-моему, ничего не получается и не получится с движением волн, как меня ни уверяют в постановочной части, тросы все равно будут видны, никакая обертка их не скроет, и весь эффект этой затеи будет разоблачен из зрительного зала. Все это очень огорчительно". Лосский, покусывая губы, молчал, потом сказал, что движение волн, что бы там ни было, по действию совершенно необходимо. Билибин, расхаживая по комнате, вдруг остановился и как-то излишне громко для данного помещения заявил: "Вот я сейчас смотрел репетицию, видел в действии ваш замысел. Все это очень интересно и занимательно, но если бы были реализованы и мои композиционные предложения по первому акту, могло быть тоже очень-очень неплохо. А?!" — закончил он, подчеркивая последний возглас. На этом "А?!", прозвучавшем как-то подчеркнуто, Лосский встал и, моргая глазами, что у него всегда являлось признаком начинающегося нервного возбуждения, сказал: "Есть ли смысл к этому возвращаться, Иван Яковлевич, поздно и практически уже невозможно". Раздался первый режиссерский звонок, собирающий репетицию.
Желая отвлечь Билибина от возникшего разговора, я открыл ему соседнюю, басовую, так называемую шаляпинскую уборную, в которой в свое время гримировался и одевался Федор Иванович, оставивший в знак памяти на стене, перед своим местом, собственноручное изображение, сделанное им гримировальными красками, — это была голова Досифея из оперы Мусоргского "Хованщина". Талантливо написанная, очень схожая с оригиналом, она была и великолепным образцом грима для последующих исполнителей этой роли, но, самое главное, ее присутствие создавало особое настроение сосредоточенной тишины в этой исторической комнате, вызывая в памяти каждого незабвенный образ великого артиста. .. Позднее, когда Шаляпин уже навсегда покинул Родину, театр для сохранности закрыл эту бесценную работу стеклом и закрепил металлической рамкой. Билибин сел за гримировальный столик, подперев голову руками и, уйдя в свои мысли, смотрел на Шаляпина. Второй режиссерский звонок нарушил эту минуту молчания. Иван Яковлевич, вздрогнув, встал и тихо сказал: "Последний раз видел его у "Гранд-опера". Худой, таким я его не знал. Спросил меня: "В Россию собираетесь?" На мое "да", помолчав, сказал: "Ну что ж, поклонитесь от меня родной земле нашей. . ."
Затем мы посетили и третью уборную в этом коридоре—-теноровую, в которой другой выдающийся певец Иван Васильевич Ершов, не желая отставать от своего гениального собрата, тоже на стене мастерски изобразил себя Кутерьмой из оперы Римского-Корсакова "Сказание о граде Китеже". Внимательно оценивая творение Ершова, Билибин спросил: "А. "Китеж" ставить не собираетесь? Вот эту оперу я бы. . ." Прозвучавший третий звонок не дал ему закончить фразу, и мы возвратились к Лосскому. Здесь Иван Яковлевич попросил меня провести его в Ламбинский декорационный зал, в котором художник Николай Захарович Мельников писал декорации "Салтана". Ламбинский зал, названный так в честь известного мастера театральной живописи художника Петра Борисовича Ламбина, помещается в правом крыле театрального здания.
Поднимаясь, Билибин жаловался, что никак не может запомнить театральных переходов. "Не театр, а лабиринт какой-то", — удивлялся он. У входа в зал он, несколько запыхавшись, остановился и с каким-то сожалением повторил: "И все же я почти убежден, что мой первоначальный вариант мог быть, пожалуй, интересней..." Почувствовалось, что он не только не изжил еще своих прежних представлений, а даже и совсем, употребляя слово Лосского, "не угомонился". Сдав Билибина на руки Мельникову, я вернулся на сцену. Позднее Николай Захарович, добродушно посмеиваясь, рассказывал: "Дотошный. Во все встревает. То и дело за кисть берется, любопытный". Билибин же всегда был доволен своими посещениями Мельникова и очень хвалил его работу.
Премьера приближалась. По существовавшему, неукоснительно выполнявшемуся репетиционному плану был устроен общий просмотр уже готовых к этому времени костюмов. Участники спектакля группами выстраивались на рампе — костюмы принимала А. В. Щекатихина. Иван Яковлевич внимательно просматривал каждый костюм и иногда что-то записывал в книжечку, но соблюдал строжайший пиетет в отношении собственной супруги, и, когда актеры, считая естественным, обращались к нему с вопросами, просьбами или замечаниями, он торопливо отнекивался и предлагал адресоваться к Александре Васильевне. "Это ее хозяйство, у нас с ней все согласовано". И только раз поддержал просьбу Павла Максимовича Журавленке, исполнителя Салтана, об облегчении веса его короны, что, конечно, потом и было сделано.
Читать дальше