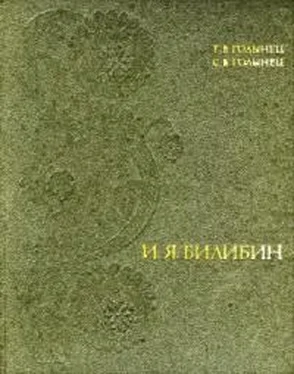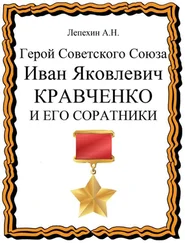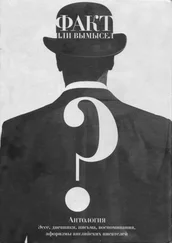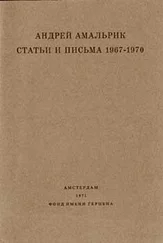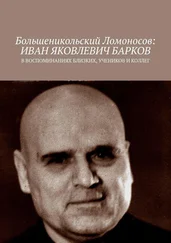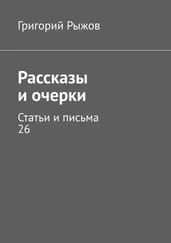Нам была известна борьба Билибина с режиссурой, пожелавшей в одной картине показать царя Салтана пьяным и сваливающимся по ступенькам. Художник категорически отказался от этого малопристойного эффекта и был прав. Здоровое чувство реалиста спасло его от явной ошибки. Я был приглашен Билибиным на спектакль. Он сам завез билеты. Постановка была принята зрителем очень хорошо. Художник оказался на высоте своих творческих возможностей. В благодарность за доставленное удовольствие я подарил ему редкое издание — "Резная кость из собрания Щукина". Иван Яковлевич остался признательным за книгу, которой у него не было.
В предвоенные годы Билибин получил заказ на создание рисунков к русским былинам. Эта работа была близка ему по духу. Он смотрел на нее как на ответственный заказ. Работал он медленно, как историк, ученый и художник. Собирал нужный ему материал, создавал эскизы. Затем окончательно решал композицию на кальке. Когда она была завершена полностью, переносил на чистую бумагу, где отрабатывал контур и раскрашивал акварелью. Работа не была доведена до конца: помешала блокада. Но он продолжал работать над серией рисунков и в бомбоубежище Академии художеств. Под кнопкой одного рисунка был им поставлен крест, когда он почувствовал, что не выдержит испытаний до конца.
Наше общение поддерживалось общей работой в Академии художеств до 1938 года, когда я ушел оттуда, но встречи продолжались. Помню его веселым на юбилейном чествовании в 1941 году по случаю семидесятипятилетия Елизаветы Сергеевны Кругликовой.
Наступившая война и блокада Ленинграда нас разобщили. Передавали, что он очень трудно переносил холод и голод, угасая, продолжал работать, пока имел силы. Но на всякое предложение эвакуироваться отвечал: "Из осажденной крепости не бегут..."
Таким твердым, убежденным русским художником, влюбленным в художественное народное наследие, остался в нашей памяти Иван Яковлевич Билибин.
После смерти художника я написал о нем небольшую статью и позднее в коллективной статье о нем принял участие. Все это было напечатано в журнале "Ленинград", издававшемся в блокированном городе.
В 1952 году в Союзе художников была устроена большая выставка произведений Билибина. Она еще и еще раз убедила нас в неповторимости этого искреннего таланта. Навсегда сохраним о нем благодарную и светлую память.
Н. Н. Гладковский
Детские годы... Нарядная книжка с русскими народными сказками. Первые опыты самостоятельного чтения. Как помогают пониманию и усвоению читаемого изумляюще красочные иллюстрации. Они уносят воображение ребенка в волшебный, сказочный мир. А кто же автор этих чудесных зрительных образов? Билибин — какое-то особое слово, само ставшее сказкой и отождествившееся в сознании мальчика со всеми красотами живописного изображения русского народного эпоса.
Прошло много лет, и вот в 1936 году мне, режиссеру Ленинградского театра оперы и балета, довелось лично познакомиться с этим ярким, оригинальным художником, сыгравшим заметную роль в формировании художественного вкуса людей моего поколения.
В 1936 году художественным руководителем театра был назначен крупнейший дирижер нашей страны Арий Моисеевич Пазовский. Первой своей работой и выступлением он избрал имевшуюся тогда в репертуаре театра оперу Римского-Корсакова "Сказка о царе Салтане". Художественное состояние этого спектакля, шедшего в театре уже более двадцати лет и потерявшего свою свежесть и первоначальные эстетические качества, при просмотре не удовлетворило Пазовского. Было решено осуществить постановку этой оперы в новой по всем компонентам творческой трактовке, тем более что и пришедший в театр вместе с Пазовским выдающийся оперный режиссер Владимир Аполлонович Лосский, постановщик старой редакции спектакля, тоже предложил кардинально пересмотреть и изменить свой прежний постановочный замысел. Все эти намерения, естественно, поставили вопрос и о привлечении к решению этого спектакля нового художника. Но тут, в этом пункте, и возникло некоторое "но". Если старый спектакль расшатался и потерял свою начальную ценность, то все же имел в своем постановочном комплексе одно неоспоримое, непреходящего значения достоинство — это оформление знаменитого русского художника Константина Алексеевича Коровина. Декорации Коровина, Головина, Александра Бенуа, золотой фонд театрального искусства, глубоко почитались нашим коллективом. В оперной труппе возникли волнения и даже протесты: "Отказываться от Коровина. ..", "Сдавать Коровина в музей. . ." и т. п. Но можно ли было при принципиально новой музыкальной и сценической трактовке оперы воспользоваться декорациями Коровина, декорациями высокой талантливости, но все же созданными с позиций иного творческого заказа?
Читать дальше