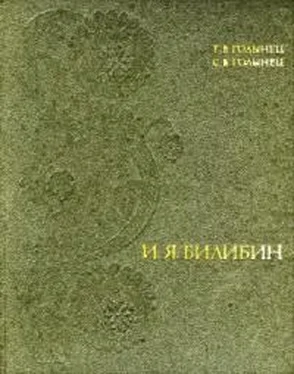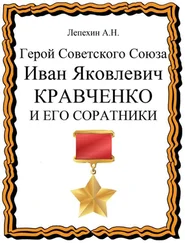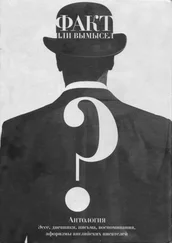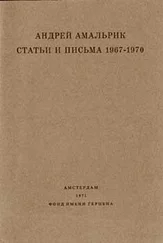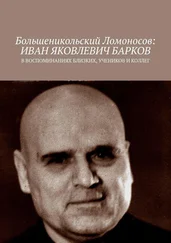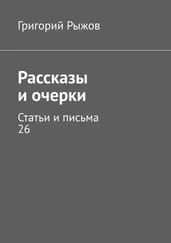Начались монтировочные репетиции. На подгоночных монтировках мы всей компанией ходили по сцене, обшагивали станки, проверяли размеры, высоты, расстояния. Все было сделано аккуратно и точно. Пробовались и сценические эффекты, полеты и трюмовые подъемы. На первой световой монтировочной Владимир Аполлонович, всегда игравший в ансамбле монтировщиков спектакля первую скрипку, очень любивший и умевший интересно освещать декорации, на этот раз изменил своему обыкновению. Сдав заведующему освещением свою режиссерскую монтировку, устанавливающую световые положения в картинах и их драматургическое развитие, напомнив еще раз ведущим режиссерам схемы сигналов по ведению спектакля, Владимир Аполлонович сказал: "Теперь, дорогие друзья, я вас сегодня покину, — и, обращаясь к Билибину, очень дружелюбно закончил: — Приступайте, пожалуйста, Иван Яковлевич".
Билибин, что называется, ринулся в бой и превосходно провел репетицию, обнаружив тонкую светотехническую интуицию, лаконичную точность в требованиях, не потратив, не в укор будь сказано некоторым художникам, ни одной лишней минуты на разного рода пробы, неубедительные световые примерки и экспериментальные блуждания.
Иван Яковлевич присутствовал на всех последних обстановочных репетициях. Приходил задолго до начала, был деловито придирчив при установке и смене декораций и всегда требовал проверки со светом из зрительного зала начальной картины репетиции, правильно придавая большое значение первому впечатлению зрителей. Регулярно навещал Билибин и уборные актеров и очень внимательно и интересно корректировал внешний вид исполнителей, превращая эти свои посещения в прямые занятия по гриму.
Наконец, в конце января 1937 года, состоялась премьера оперы. Спектакль имел огромный успех у зрителей, устроивших по его окончании и постановщикам, и исполнителям бурную овацию. Каждый подъем занавеса вызывал аплодисменты зала. Пресса восторженно оценила новую работу нашего коллектива, отмечая, кроме высоких художественных достоинств, ее большое принципиальное значение как творческой вехи в деятельности театра. Спектакль стал украшением оперного репертуара.
Иван Яковлевич вместе с супругой сначала бывал на каждом представлении, потом стал бывать реже, а далее и совсем исчез с горизонта, видимо, другие творческие дела поглощали его время.
Но вот, через три сезона, весной 1940 года наши творческие отношения с Билибиным возобновились.
В число оперных постановок, вывозимых театром на смотрев Москву, конечно, включили и "Салтана". Для проведения необходимой проверки и освежения оформления спектакля был приглашен Билибин. В. А. Лосского в Ленинграде к этому времени уже не было. Руководство просило художника тщательно просмотреть всю материальную часть спектакля и указать, что нужно, с его точки зрения, отремонтировать, заменить и доделать. Билибин ввел вместо черного бархата, разделявшего в темных перерывах картины оперы, очень украсивший спектакль великолепный антрактный занавес с огромным лебедем в центре и улыбающимся солнцем и луной в верхних краях. В ленинградских постановках оправдались ранние прогнозы Билибина насчет волн: злополучные тросы, двигающие их, действительно были видны и грубо резали по вертикали чудесное, насыщенное цветом — то кобальтовое, то бирюзовое билибинское небо. Волны эти теперь были переведены на рукоятное планшетное управление, довольно громоздкое, не очень удобное в эксплуатации, но, во всяком случае, спасшее зрительное впечатление. Отменил Билибин и в общем неудавшийся при выпуске спектакля двойной полет коршуна и лебедя, заменив его хорошо сделанной фигурой одного лебедя.
В Москве Билибин очень результативно провел полагавшуюся монтировочную репетицию, умело воспользовавшись более мощным светом Большого театра, разнообразием его световой аппаратуры, нашел новые нюансы в освещении, и спектакль стал выглядеть еще красочнее. Аосский приехал только на самый спектакль. Московский зритель и печать с энтузиазмом приняли оперу.
Итогом ленинградской декады искусств был заключительный концерт в Большом театре Союза ССР. Предстоял отъезд. И тут поступило сообщение о правительственном приеме в Кремле ленинградских артистов.
На другой день мы с Журавленко направлялись через Красную площадь в Кремль. Настроение чудесное, ответственные гастроли прошли с успехом. Теплый майский день, над головой — прямо билибинское небо, и как-то сказочно блестят в лучах уходящего солнца разноцветные купола Василия Блаженного. На подходе к Спасским воротам заметили бодро шагавшего Ивана Яковлевича. Пальто нараспашку, шляпа в руках, какой-то помолодевший, он не шел, а летел, а лет ему было тогда, вероятно уже за шестьдесят. Вместе прошли на территорию Кремля, вместе разделись и по знаменитом дворцовой лестнице поднялись к Георгиевскому залу — впуска еще не было. В одной из гостиных увидели окруженного группой приглашенных Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Владимир Иванович, как всегда подтянутый и элегантный, сидел, закинув ногу на ногу, в кресле и что-то, видимо очень веселое, судя по улыбающимся лицам слушателей, им рассказывал. Подошли и мы к ним. Узнав Билибина, Немирович встал, поцелуйно с ним поздоровался и, извинившись перед своей аудиторией, обещая еще досказать начатое, к огорчению всех, под руку увел Ивана Яковлевича в другой конец комнаты.
Читать дальше