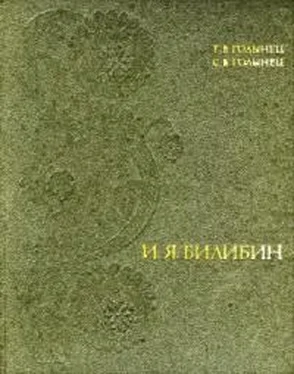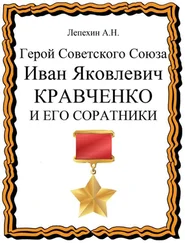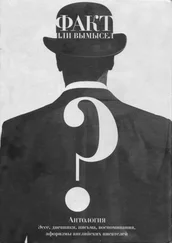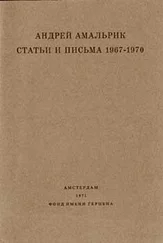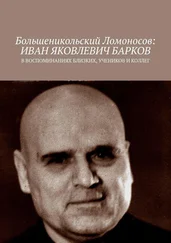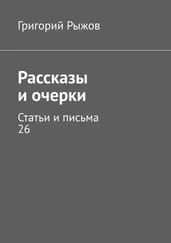Несколько месяцев 1913 года прошли в напряженной работе. Наконец эскизы для театра Народного дома были закончены. Иван Яковлевич не раз брал меня для совместного просмотра исполненных по ним декораций.
Когда прошли генеральная репетиция и премьера оперы "Руслан и Людмила", Иван Яковлевич взял у директора театра, генерала Фигнера, свои эскизы и дал мне новую задачу: скопировать их как можно точнее. Он говорил: "Пусть лучше крысы театрального архива сгрызут сделанные вами копии, чем мои подлинники!" Помню, как-то раз Иван Яковлевич пошел со мной на пари, что, невзирая на точность моих копий, он узнает свой подлинник на дистанции пяти шагов. Он уверял, что разница между копией и оригиналом есть и он ее увидит. Пари было на любой рисунок, украшающий стены мастерской. Сказано—сделано. Старательно скопировав один из эскизов к опере "Руслан и Людмила", я в присутствии собравшихся свидетелей из нашей компании установил на двух стульях оба рисунка: подлинник и копию. Закрыл их газетой. Иван Яковлевич сам торжественно отмерил, как на дуэли, дистанцию: "Рр-аз, д-два, т-три, че-четыре, п-пять". Встал в позу. Я открыл рисунки. Иван Яковлевич долго всматривался в них, наконец, ткнув пальцем в сторону моей копии, уверенным тоном сказал: "Эт-то в-вот сде-делано м-мною!" Я был счастлив и торжественно снял со стены один из рисунков, сделанных Иваном Яковлевичем для журнала "Сатирикон".
Помогая Ивану Яковлевичу в его работах, я одновременно урывками исполнял и свои работы для издательств и журналов. Иван Яковлевич рекомендовал меня всюду, где только мог. Когда у него было немного работы, то он рекомендовал меня как помощника другим художникам, которые исполняли какой-либо большой заказ. Так, по его рекомендации я работал у Е. Е. Лансере, у братьев Николая Константиновича и Бориса Константиновича Рерихов и других. Работая у многих в то время уже прославленных художников, я почувствовал, что традиции билибинской школы не всегда могут быть применимы в художественном "рукомесле" (выражение В. А. Серова). Иван Яковлевич убежденно говорил, что подлинный художник-график, если хочет создать безукоризненный во всех отношениях рисунок, то должен делать его не более пяти квадратных сантиметров в день. Лансере, Рерих, Нарбут и почти все художники-архитекторы, которым я когда-либо помогал в их работе, требовали от меня больше быстроты, чем тщательности и аккуратности. Мне пришлось перековаться, стать более подвижным в работе. Но все же билибинская школа мне всегда казалась единственно правильной. Действительно, только работая не спеша, художник-график может создать блестящий рисунок.
Правда, бывают исключения из общего правила. Нарбут, например, работал значительно быстрее своего учителя, но эта быстрота объяснялась не только спешкой, но и чрезвычайным его упорством в работе. Кроме того, у Нарбута билибинская тщательность причудливо сочеталась с приобретенной им в Европе небрежностью и оперативностью в работе.
Все это время, весь 1912 и 1913 годы, я работал над своей большой станковой графической композицией "Летний вечер. Сказка". Ивану Яковлевичу я ничего не говорил об этой работе. Я хотел показать ее, когда совершенно закончу. Но обстоятельства сложились так, что С. К. Маковский, случайно увидев у меня эту работу, приобрел право репродукции ее для "Аполлона" и во что бы то ни стало хотел, чтобы она фигурировала на очередной (1913—1914 годов) выставке общества "Мир искусства", к чему присоединился и Я. А. Тугендхольд, критик из "Аполлона".
Таким образом, неожиданно для Ивана Яковлевича работа моя появилась на выставке с серебряной дощечкой, где было выгравировано посвящение этой первой моей самостоятельной работы дорогому учителю и другу. Через несколько дней Билибин позвонил мне по телефону и трогательно поблагодарил за посвящение, слегка подшутив над его "высоким штилем". Иван Яковлевич не преминул пожурить меня за "ненужную и вредную скрытность", сказав при этом: "М-меня-т-то вам нечего с-стеснять-ться. А я б- бы, на-на-верное, по-посоветовал в-вам, к-как из-излеч-чить о-от хро-хром- моты в-вашего при-принца!" И действительно, главный персонаж моей композиции страдал подагрой. Публика восприняла это как должное, что может же быть в моей "сказке" и хромоногий принц. А Билибин сразу подметил, что я просто не справился с трудной позой.
Мне было как-то не по себе, несмотря на успех моей работы. Меня охватывало все больше и больше чувство досады за скороспелое и, как мне тогда казалось, неудачное выступление наряду с большими мастерами на большой выставке. Правда, это выступление не вскружило мне головы, и я продолжал свою серьезную школьную работу в академической мастерской В. В. Матэ и не упускал уже случая советоваться с Иваном Яковлевичем по поводу каждой предпринимаемой работы. Как раз я в это время с большим увлечением изучал в Эрмитаже коллекцию офортов Рембрандта. Изучая работы этого мастера, я разочаровался в некоторых тенденциях "Мира искусства" и как-то отвратился от них. Я не мог не заметить убогость некоторых современных мастеров этого течения по сравнению с гениальным творческим размахом голландца. Боязнь малейшего приближения к жизни, к реальному изображению ее, излишнее увлечение декоративностью, переходящее часто даже к созданию дешевого эффекта, мне начинало уже претить. Особенно меня раздражало, что и сам-то я тоже не могу никак выйти из этого заколдованного круга чрезмерной декоративности. Но графические произведения Билибина (я говорю это вполне искренне, беспристрастно, а не потому лишь, что он мой любимый учитель), на мой взгляд, имели свое большое жизненное оправдание: они открывали нам двери в мир былин и сказок, будили интерес к русскому народному искусству, которое у нас, до Билибина, искажалось, претворялось в сентиментальный петушиный стиль. Повторяю, я быстро охладел к обществу "Мир искусства" в целом, но к Ивану Яковлевичу и ко многим другим членам этого общества я навсегда сохранил самое большое чувство: чувство благодарности за их превосходное и тонкое мастерство, за их отношение ко мне и за внушенную мне любовь к серьезной и упорной работе над собой. Со многими из художников "Мира искусства" я был связан всю свою жизнь: я встречал повсюду их как друзей и в Берлине, и в Париже, и в Праге. Но больше всех был мне близок Иван Яковлевич Билибин, мой учитель, мой друг и приятель. С ним я провел всю свою жизнь петербургского периода, с ним жил в самом тесном общении и дружбе и в период пребывания нашего в Париже.
Читать дальше