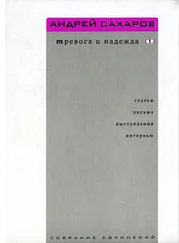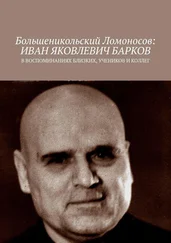Несколько "сред" я посетил благополучно: они не были слишком многолюдны. Но вот однажды, когда я вошел в мастерскую Билибина и журфикс был в полном разгаре, случилась беда. На этот раз "среда" была многолюдна и шумна. В огромном и высоком, как храм, помещении столбом стоял табачный дым. Было впечатление, что тут происходит нечто напоминающее какое-то даже не богослужение, а сектантское радение. Разбившись на несколько групп, все сразу оживленно и громко говорили, перебивая друг Друга.
Иван Яковлевич, взяв меня приветливо под руку, вывел на середину мастерской и громогласно возвестил, дружески похлопывая меня по плечу: "Разрешите вам представить моего старого ученика и приятеля Ивана Ивановича Мозалевского! Он хотя и большевик, но прекрасный малый". Моя служба в месткоме советских учреждений воспринималась как самим Билибиным, так и вообще всеми эмигрантами как партийная ("большевистская") работа. Тем более, что в парижской советской прессе, как русской, так и украинской, часто появлялась под статьями моя подпись. Эффект от представления меня как большевика всему этому обществу, ненавидящему Советскую власть, был не особенно приятен ни мне, ни моему любезному, но легкомысленному хозяину; он даже не ожидал такого результата от своих слов: один за другим, молча, покинули мастерскую многие из почитателей его таланта. Лишь несколько человек, преимущественно молодых писателей и журналистов, из любопытства к моей особе остались.
Когда в мастерскую вошла с подносом, полным чашек чаю, жена Билибина, она, видимо, была поражена такому внезапному исчезновению большей части гостей. За чашкой чаю один из наиболее развязных молодых литераторов, залихватски закинув ногу за ногу и деланно-ухарски закурив папиросу, задал мне провокационный вопрос: "А когда же большевики ваши подохнут?" — "Обратитесь в Наркомздрав к т. Семашко, — ответил я. — К вашему сожалению, я не в курсе дел о здоровье всех советских граждан".
После такого неудачного дебюта Иван Яковлевич предложил мне приходить в среду не днем, а вечером, или даже в любой день, так как он может по старой памяти, не стесняясь, болтать со мною, сидя за рабочим столом. Иногда, по воскресеньям, мы ходили "всей семьей" в кинематограф (Иван Яковлевич, я, наши жены и сыновья).
Надо сказать, что первый год своей парижской жизни Билибин не думал вовсе о каком-либо заработке. Во-первых, в банке еще лежали в изрядном количестве египетские фунты, а, во-вторых, он занялся творчеством вне всяких финансовых расчетов и, надо признаться, создал немало прекрасных произведений графического искусства. Но то ли по незнанию парижской жизни, то ли по какому-то легкомыслию (присущему, каюсь, и мне!) он надеялся, что участие его во французских салонах и на предполагавшихся русских выставках даст ему некоторую известность, скажем славу, и приведет к нему в мастерскую заказчиков и почитателей его таланта (ас ними заодно и покупателей-меценатов). На деле же, несмотря на растущие знакомства и связи во французских и русских художественных кругах, на упрочившуюся славу среди эмигрантских деятелей культуры и искусства — писателей, ученых, художников, музыкантов, и артистов, — фунты в банке таяли, а заказы и покупки не появлялись в количестве, хотя бы компенсирующем это таяние. Дефицит увеличивался с каждым месяцем. Иван Яковлевич стал тревожиться за свою и своей семьи судьбу. Подчас у нас с ним бывали длительные собеседования на эту тему, и он с досадой говорил, что все это — и огромное ателье, и журфиксы с вином, чаепитием, печеньем и апельсинами — ничего, кроме расходов, не дают, и он уже жалеет, что дал себя в Александрии уговорить переехать в Париж. И всегда при этом он с досадой произносил: "Эт-то в-се Шу-шурочка — в Па-париж д-да в П-париж".

Ярослав Мудрый. Рисунок для открытки из серии "Князья Древней Руси". 1926.
Когда Иван Яковлевич заключил с дирекцией "Частной оперы" договор на постановку оперы "Царь Салтан", то, желая помочь и мне материально, он прислал шутливое и бодрое письмо с предложением моей жене, художнице В. д. Розовой-Мозалевской, стать его платной помощницей в деле создания эскизов к декорациям и костюмам этой оперы. 20 декабря 1926 года он прислал мне открытку следующего содержания: "Добродию Иване Ивановиче, що це таке, що Вас не було у середу? Мы дуже спугались; с понеділка хочу звати Вашу жінку до себе працювати. Специальный стіл уже купили. Стоїть серед хати. Трохи боюсь, що жінка буде ц дн з вашим хлопчиком, так як же ми будемо працювати? Може Ви прийдете. Бувайте здоровеньки, Ваш Перебил бенко". Затем следовала приписка его жены, написанная в том же ложноукраинском стиле: "Заходить до нас, а то дуже скучаємо. А. Щекотыха". И, наконец, Иван Яковлевич с самодельного украинского языка переходит на русский: "Р. S. Перехожу на свой родной — кацапский язык. Трудно писать по-хохлацки. Каково?! Я думаю, что Шевченко трижды перевернулся в домовине и крякнул от удовольствия. Мы зримы дома, например, завтра, в пятницу днем от 4 до 6 дня. В субботу утром тоже. М. б., начинать работу с Валентиной Даниловной трудно из-за Вашего Пуйки [* Пуйка — по-латвийски мальчик. Мой сын родился в Латвии, в Риге.], который сейчас у Вас дома и "отдыхает" от трудов. Насчет условий я навел справки и сообщу Вам при встрече" {3}.
Читать дальше