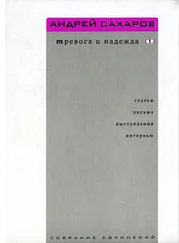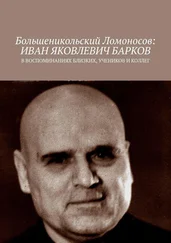В конце 1927 года он еще надеялся, что ему все же удастся устроить свою жизнь и сохранить некоторое равновесие в этом шатком эмигрантском бытии. Несмотря на растущие расходы и уменьшающиеся доходы, Иван Яковлевич наивно, по-детски верил в какое-то чудо. Правда, временами он впадал в "английский сплин", или "русскую хандру", переходившую в отчаяние. Но каждый раз перед праздником рождества и Нового года он оживал и к нему возвращался его природный юмор.
В Париже между художниками в то время существовал обычай: с новогодними поздравлениями посылать друг другу какой-нибудь небольшой рисунок, акварель или эстамп. Вот и я послал Ивану Яковлевичу линогравюру— автопортрет, сделанный по наброску 1926 года, когда я был еще худ. Позднее я значительно отучнел и утратил (конечно, до некоторой степени) сходство с этим портретом. 31 декабря 1927 года я получил ответное поздравление. Оно интересно по стилю, выдумке и особенно по настроению, полному жизнерадостного юмора. Он писал: "Дорогой Иван Иванович, сегодня мы получили поздравление от какого-то незнакомого нам господина с приложением, очевидно, его собственного портрета или автопортрета. Мужчина тощий, в очках; тип отчасти Шерлока Холмса. На голове у него мы усмотрели маленькую шишку, и это навело на мысль о Вас. Сия гравюра не может изображать Вас, ибо Вы, как всем известно, мужчина дородный и, что называется, в соку. Даже шишку Вашу я объясняю себе тем обстоятельством, что соки эти из Вас прут, не уместившись в теле, и выперли в шишку на темени. Погодите, что еще дальше будет; ну, а пока что позвольте Вас поздравить с новым 1928 годом, Вас и все семейство Ваше. Очень сожалеем, что мы не видели Вас на праздниках. Приходите к нам поскорее поболтать о том, о сем и послушать миккифон [* "Миккифон" — карманный граммофон американского изделия.]. На праздниках я вел себя не по предписанию врачей, а по заветам святого Владимира, которого Вы, украинцы, вместе с Вашим профессором Грушевским причислили к лицу украинскому, а мы, россияне, считаем его русским. Осталось меньше четырех часов этого самого 1927 года. И вам и себе пожелаем, чтобы 1928 год был лучше. Здоровье и деньги: вот самое главное. Итак, еще раз с Новым годом! Ваш экс-учитель, экс-собутыльник и без экса всегда приятельски к Вам настроенный И. Билибин" {6}.
Иван Яковлевич любил подшучивать над выросшим у меня посредине темени огромным жировиком формы конуса. Он называл меня единорогом, а самую шишку Фудзи-Ямой и уверял, что это из меня прут жизненные соки, не умещаясь в нормальном объеме моего тела. Он знал (я ему сам об этом рассказывал), что стоило мне где-нибудь — в кафе или ресторане — снять шляпу, как тотчас же изо всех углов раздавался сдержанный смех и шепот. "Regarde! Coci!" ("Смотри! Рогатый!") Это забавляло Ивана Яковлевича и вдохновляло его на каламбуры и четверостишья.
В начале 1928 года Иван Яковлевич испытывал серьезные материальные трудности. На "среды" уже наложено было (по выражению самого Ивана Яковлевича) "табу", и наши свидания с тех пор стали или случайными (на улице), или по предварительному обмену пневматичками (телефона у него не было). Иван Яковлевич был по горло занят постановкой оперы "Царь Салтан", от которой прибыль пока что была малая, так как дирекция по-прежнему увертывалась от платежей и отодвигала их по возможности к началу русского оперного сезона.
Посещая время от времени ателье на бульваре Пастера, я заставал его неизменно сидящим за рабочим столом, укутанным во что попало, зябнущим и вечно не расстающимся с насморком. Он все чаще и чаще ругал "фантазию Шу-шурочки"— "нанять эд-дакую не-неотоп-пимую ма-махину". Ателье отапливалось двумя огромными железными печами (на манер фабричных черных труб), стоявшими в двух противоположных углах. Чтобы истопить их, нужно было бы истратить уйму угля. Из экономии топилась лишь печь, стоящая ближе к рабочему столу Ивана Яковлевича, но, по правде сказать, отопления не чувствовалось: стоял арктический холод. Я прямо-таки изумлялся, как мог Иван Яковлевич при такой температуре вести свою безукоризненную отчеканенную графическую линию? Это — поистине было чудо!
В феврале 1929 года я получил от него приглашение на открытие русского сезона с билетами и замечательной программой, где прекрасно репродуцированы были два костюма к опере "Царь Салтан". Письмо было скомпоновано на особом украино-русском языке, на котором Иван Яковлевич довольно часто обращался ко мне и Нарбуту. Пригласил он меня в таком возвышенном стиле: "Гае, гае, воропае, гоп, Иван Иванович, звистно всему мирови, як соби нашумив опера "Царь Салтан", а потому не хотите ли пойти в воскресенье на представление" {7}.
Читать дальше