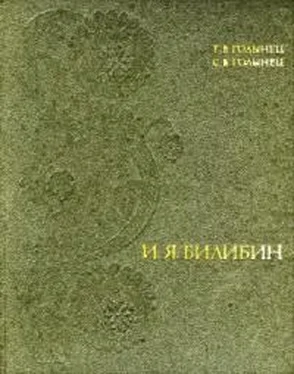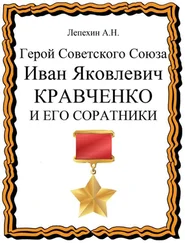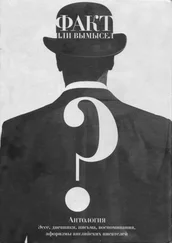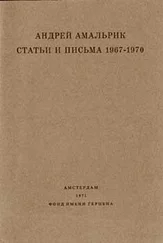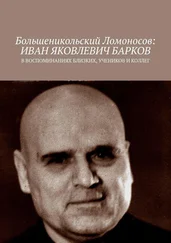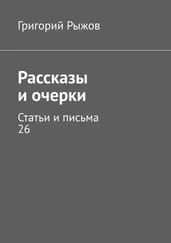Постановка была великолепная! Она удалась Ивану Яковлевичу, несмотря на тяжелые условия работы над ней: холод, нервное состояние, безденежье. Но после удачной постановки (успех был огромный) выяснилось, что театральные антрепренеры осчастливят его лишь на пятьдесят процентов гонорара. Остаток, дескать, потом, после окончания сезона. Это событие весьма опечалило Ивана Яковлевича и поставило его в трудное материальное положение.
Друзья и почитатели творчества Ивана Яковлевича, жившие в Амстердаме, в Голландии, организовали выставку его произведений и пригласили его приехать на вернисаж. Выставка имела большой успех у голландской публики. Иван Яковлевич был приглашен остановиться в семье богатого голландца — в семье благочестивой, пуританской. За обедом и ужином — молитвы (перед едой и после), а выпивки ни-ни, разговоры все велись чинные, благопристойные, или, как их определил Иван Яковлевич, ханжеские. Все шло благополучно — и с выставкой и с пребыванием русского художника в благочестивой голландской семье, но вдруг Иван Яковлевич, как легендарный папаша Гекльберри Финна из повести Марка Твена, не вытерпев такого сухого режима и встретившись с какими-то соотечественниками, закутил, и так шумно, что его поведение было осуждено пуританской голландской финансовой знатью, а это вконец испортило созданное им первоначальное впечатление. По этим же причинам выставка потерпела материальную неудачу. Иван Яковлевич с юмором и без всякого сожаления о случившемся рассказывал, каким "красавцем" он ввалился после попойки к гостеприимным пуританам, какие постные лица были у них на следующий день при встрече с ним. Его причислили к грешникам и кандидатам в ад. Голландское общество оказалось не по нутру Ивану Яковлевичу. Один раз рассказав о своих голландских приключениях, Иван Яковлевич больше никогда не возвращался к этой теме.
У меня в 1929 году тоже было событие: первая моя (и моей жены) выставка в Париже. Как всякий не знающий этого города легкомысленный художник-иностранец, я думал, что, выставившись в шикарной картинной галерее Бернгейма Младшего, можно сразу приобрести известность у парижской публики и найти себе богатых меценатов. Я уже видел много подобных выставок, но не присмотрелся к тому, что все они давали большой расход и никакого прихода, не только материального, но и морального. Это выброшенные деньги, и притом большие деньги.
Вернисаж был многолюден. 21 мая в чудный летний день все наши советские служащие (а учреждений было много) сочли своим долгом посетить нашу выставку, да еще в такой шикарной галерее. Большинство русских и украинских художников тоже почтило нас своим присутствием. Один Иван Яковлевич не пришел: у него было какое-то спешное и неотложное дело, забежала лишь Щекатихина и сказала, что они с Иваном Яковлевичем придут на выставку завтра. На следующий день зал нашей выставки был абсолютно пуст — ни души. Долго сидели мы с женой в уголке зала и рассуждали о причине контраста: вчера битком набитый зал, а сегодня — хоть шаром покати. Пришел Иван Яковлевич Билибин с супругой и, встав в дверях, громогласно произнес: "Ар-рав-вийская п-пуст-тыня!" И действительно, ковры в зале и стены были серо-желтого, песочного цвета, это навело Ивана Яковлевича на сравнение с безлюдьем аравийской пустыни, которая ему была так хорошо знакома.
Иван Яковлевич внимательно рассмотрел как мои, так и Валентины Даниловны (жены) работы, сделал несколько дельных замечаний, кое-что похвалил, за кое-что и побранил. В общем же он остался доволен нашей выставкой и, прощаясь, пожелал нам дальнейшей плодотворной работы. Но тут же он подчеркнул, что все это может иметь успех лишь у нас, на нашей Родине.
Уже с 1929 года появились серьезные симптомы обнищания эмиграции, а с 1930-х годов началась подлинная трагедия эмиграции. Кто обнищал — скатился в бродяжничество. А кто служил или работал, с возникновением экономического кризиса увольнялся в первую голову как иностранец-апатрид, увольнялся без всякого выходного пособия и, в лучшем случае, получал право на пособие для безработных, так называемый "шомаж". Это микроскопическое пособие выдавалось мэрией того района, в котором эмигрант жил. Но когда нечем было платить за квартиру, то он превращался в бездомного бродягу и лишался шомажа. На улицах Парижа в эти годы появилось множество нищих, бродячих певцов и музыкантов из прежних высокопоставленных лиц. Даже бывшая звезда французского кино, русский артист Иван Мозжухин, спившись от безработицы и горя, просил милостыню у русского собора на улице Дарю. А сколько более мелких и незаметных эмигрантов скатилось под мосты Сены.
Читать дальше