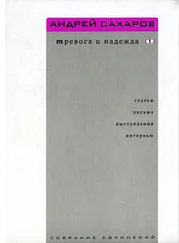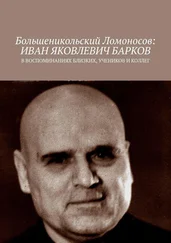Надо отметить, что петербургский период нашей дружбы кончился довольно печально и холодно. Когда я в 1915 году уезжал на фронт, я нанес первым долгом свой прощальный визит Ивану Яковлевичу. Я не знал, куда попаду и вернусь ли, а потому хотелось расстаться с ним, по-хорошему поговорив, вспомнив и осмыслив былое, вместе прожитое. Но, к сожалению, мой прощальный вечер у Ивана Яковлевича чуть не кончился скандалом. Я застал у него некоего Аргамакова, обрусевшего немца (его настоящая фамилия была Гемпель), принявшего во время войны, "с высочайшего соизволения" фамилию своей жены, ученицы Ивана Яковлевича. Сначала шел обычный в таких случаях разговор о моем отъезде на фронт и связанной с этим опасностью для жизни.
Совершенно случайно мы перешли на тему о событиях на фронте. Билибин, настроенный в то время весьма патриотически (если не "ура-патриотически"), в порыве восторга перед успехами наших войск в Галиции воскликнул: "М-мы е-еще ув-видим к-крест н-на свя-святой С-соф-фии!"
Я прослужил первые полгода, сразу после призыва из запаса, в Генеральном штабе и был в курсе настоящего положения на фронте (я служил чертежником в Австро-Балканском отделе). Мне, слышавшему в штабе о невооруженности и слабой военной подготовке маршевых рот, которые следовали на пополнение кадровых частей, буквально тающих в боях, было вполне естественно относиться скептически к последним (я чувствовал и даже знал это) временным успехам, явившимся результатом больших безрассудных человеческих жертв. Пиррова победа! У меня невольно сорвалась фраза: "Боюсь, Иван Яковлевич, как бы нам самим не сесть на осиновый кол, вместо креста на святой Софии!"
Гемпель-Аргамаков служил не то воспитателем, не то экономом в одном из кадетских корпусов Петербурга, то есть был военным чиновником. Как всякий неофит, только что почувствовавший себя под русской фамилией жены русским патриотом, он стал "более католиком, чем сам папа Римский". Встав из-за стола и приняв театральную позу обличителя, он произнес резко, как слова команды: "Если бы вы не были гостем Ивана Яковлевича, господин вольноопределяющийся, я тотчас же бы свел вас в комендатуру за ваши слова! Вы, нижний чин, служащий в русской армии, хулите нашу армию! Стыдно!" Но мне, отъезжающему на фронт, да еще по собственному желанию, совсем не было стыдно перед этим тыловым немцем-чинушей, играющим в русского ура-патриота.
Этот глупый, ненужный инцидент, однако, нарушил дружественный тон прощания с моим дорогим учителем. Расстались мы с ним, к глубокому моему огорчению, почти холодно. Это было в июле 1915 года.
Оба мы закружились в вихре событий и встретились снова лишь спустя одиннадцать лет.
В июле 1926 года я переехал из Праги в Париж. Иван Яковлевич со своей новой женой Александрой Васильевной Щекатихиной, вдовой Потоцкого, уже около года жил в столице Франции. Прибыли они из Александрии с уймой египетских фунтов, переведенных в английский банк, и огромным количеством этюдов Египта, Сирии и Палестины. Поселился он на бульваре Пастера, в огромном ателье, похожем на какую-то протестантскую церковь, с колоссальной люстрой из газовых ламп посредине потолка и окнами (скорее, стеклянными стенами) с двух сторон.
Невзирая на разность убеждений (я был в это время уже советским гражданином), мы оба выразили желание возобновить нашу дружбу. Наше первое свидание было искренне и трогательно. Мы расцеловались и, усевшись рядышком на диване, задавали друг другу всяческие вопросы и рассказывали вкратце о всем пережитом за этот бурный период как его, так и моей жизни. Никакой ожидаемой мной отчужденности между нами не было, несмотря на различие наших мировоззрений. Общие взгляды на искусство нас делали близкими друг другу.
В дальнейшем ни разу за все совместно прожитые в Париже десять лет мы не повздорили с Иваном Яковлевичем. Оба мы часто были заняты борьбой за существование, но, даже подолгу не видясь друг с другом, мы перекликались письмами, излагая иногда мысли в шутливой стихотворной форме. Но дружба наша на первых же порах слегка омрачилась отношением ко мне его окружения. У Ивана Яковлевича был приемный день (журфикс) — среда. В одну из первых "сред", посещенных в его мастерской, чуть не разыгрался скандал. Иван Яковлевич, приехав из Египта, стал в центре внимания всей русской эмиграции как народный национальный художник бывшей Российской империи. Поэтому мастерскую его посещали и самые махровые эмигранты, что называется, тузы эмигрантского движения. У него можно было встретить всех писателей, журналистов, артистов и художников, причислявших себя к бывшей России, противопоставлявшейся Советской России.
Читать дальше