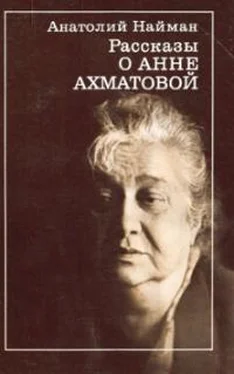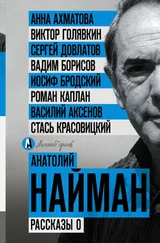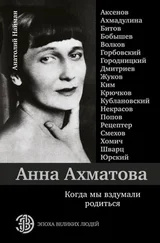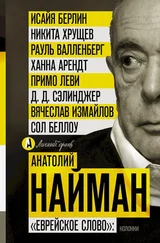В другой раз, когда разговор зашел о современной французской поэзии, она сказала: «Я знаю, что Аполлинер — последний поэт, не надо меня в этом убеждать». Возможно — «последний европейский», но в сознании осталось «последний вообще». А вспомнил я об этом здесь, потому что сразу вслед за именем Аполлинера в той беседе всплыло имя Блока с тем же определением — «последний». Смысл был такой, что после него — или после них — началось что–то другое.
Началась поэзия, получившая сознательную установку на цитату. Главным образом чужой текст, поэтический, документальный, отсылка к мифу, но также и музыка и живопись стали вводиться в поэзию нового времени на новых основаниях, демонстративно и обязательно. Знаки культуры размещались в стихах как ориентиры, очевидные и скрытые, — в последнем случае с заложенным в них требованием поисков ключа для дешифровки.
Наши разговоры не раз касались Т. С. Элиота: в 60‑е годы оживился интерес к нему, он стал нобелевским лауреатом. Пришло его время, короткое, сфокусированным пучком света высветившее фигуру, стали актуальны идеи, переиздавались статьи. Он родился на год раньше Ахматовой и умер на год раньше. Она заговорила о нем, довольно подробно и именно о нем, а не «по поводу», за несколько дней до его смерти. (Так же беспричинно, вдруг завела она речь о Неру накануне его смерти, о Корбюзье за неделю до разрыва сердца у него.) Говорила с нежностью, как о младшем брате, всю жизнь ждавшем и под конец дождавшемся удачи: «Бедный, годами служил в банке, как тяжело ему было. Ну хоть в старости — признание, слава». Позднее показывала гостям трогательную пронзительную фотографию (он стоит, чуть пригнувшись, за креслом жены) в номере журнала «Europa Letteraria», объявлявшем о присуждении ей премии «Этна–Таормина». Я переводил тогда главу из «Бесплодной земли», потом главу из «Четырех Квартетов». В «Четырех Квартетах» она отметила строчки:
The only wisdom we can hope to acquire
Is the wisdom of humility: humility is endless.
(«Единственная мудрость, достижения которой мы можем чаять, это мудрость смирения: смирение — бесконечно».) Часто повторяла: «Humility is endless» И в это же время появился эпиграф к «Решке» — «In my beginning is my end» («В моем начале мой конец»), тоже из «Четырех Квартетов».
Элиот вводил в стихотворный текст цитаты сплошь и рядом в открытую. У Ахматовой таких коллажей нет, она вживляла цитату, предварительно перерожденную гак, чтобы чужая ткань совместилась с ее собственной. Но источники у обоих были ге же: Данте, Шекспир, Бодлер, Нерваль, Лафорг… И, кажется, именно с процитированной Элиотом строчки из «Е 1 Desdichado» Жерара де Нерваля она начала однажды разговор об этом стихотворении, прочла наизусть несколько строк, сняла с полки, te то вынула из ящика стола тоненькую книжку «Les Chim^res», открыла на «Е 1 [>esdichado» и сказала как бы с усмешкой: «А вот что переведите». Вскоре полустишие 13 этого сонета стало эпиграфом к «Предвесенней элегии»: «Toi qui m'a consolee», : переменой грамматического рода («Ты, который меня утешил»).
Следует оговориться сразу, хотя из последующего это станет ясно само собой, по ахматовские ссылки на кого–то, переклички с кем–то через цитирование чужих или отчужденно — своего собственного) текстов и по существу, а не только по приему, \ корне отличны от пересказа, пусть дословного, чьих–то сочинений или отдельных их tecT, фарширующего произведение заемными ценностями. Когда я ей прочитал нравившееся любителям поэзии стихотворение моего сверстника «Едоки картофеля», описывающее картину Ван Гога с точки зрения едоков и кончающееся строчками, в которых подытожена идея всей вещи: «То ли мы едим картофель в этом мраке, то ли он», — она недовольно фыркнула: «Пускай он самих «Едоков картофеля» напишет!» — то есть пиши, а не описывай.
Из своих ранних стихотворений она выделяла «Углем наметил на левом боку» целиком и последнюю строфу особенно:
Углем наметил на левом боку Место, куда стрелять, Чтоб выпустить птицу — мою тоску, В пустынную ночь опять.
Милый, не дрогнет твоя рука, И мне не долго терпеть. Вылетит птица — моя тоска, Сядет на ветку и станет петь.
Чтоб тот, кто спокоен в своем дому, Раскрывши окно, сказал: «Голос знакомый, а слов не пойму», — И опустил глаза.
Она сравнивала с этими строчками корейское стихотворение XVII века, ею позднее переведенное:
Когда моя настанет смерть. Душа кукушкой обернется. В густой листве цветущих груш Я полночью глухою спрячусь. И так во мраке запою. Что милый — голос мой услышит.
Читать дальше