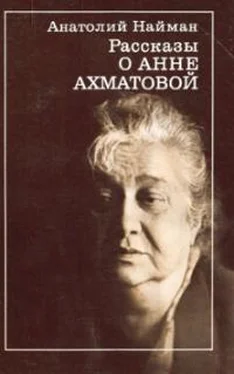Ахматова наследовала царственное слово, Дантову музу, царскосельских лебедей, Россию Достоевского, доброту матери. Из этого она «сделала, пожалуй, все что можно», перестроив по–своему дом поэзии из камней дома, доставшегося ей, и оставив его в наследство будущему. Эти камни вечны и, как всегда, как испокон веку, годны для следующего строительства. Годны, но пока не нужны, неупотребительны: новый быт, новые функции архитектуры, новые материалы, в ходу пластмасса — «бессмертная фанера», как называла ее Ахматова.
В декабре 1962 года я прочитал ей только что законченную мной поэму. Это было в Москве, стояла бесснежная стужа. Она жила тогда у Ники Николаевны Глен на Садовой–Каретной и в теплоте и уюте этой семьи выглядела мягче, домашнее. «Тоже Матрена», — говорила она о матери Ники Николаевны, имея в виду солженицынский рассказ «Матренин двор». К тому времени между нею и мною установились уже достаточно дружеские отношения, но еще без будущей доверительности, без той — «после некоторого сомнения я решаюсь написать» — сердечности, которая возникла через несколько месяцев. Она сказала, что понравилось, что «это безусловно поэма, хотя по–настоящему размер не найден», и: «Я не люблю шестистопный ямб при пятистопном». Об определяющей, конструирующей роли размера для поэмы, о том, чуть ли не что «поэма — это размер», она говорила не однажды и до и после этого разговора, настаивая на том, что размер (и строфа), скажем пушкинский ямб (и «Онегин» по преимуществу), — это не раскрытая дверь, а шлагбаум, об который разбились многие поэмы, начиная с «Пиров» Баратынского и кончая блоковским «Возмездием»: он «съел» русскую поэму; и, наоборот, только новый размер определил удачу «Мороза, Красного носа» и «Двенадцати». Что же до смешения пятистопника с шестистопником, то возражала она, насколько я понял, не против приема как такового, которым сама широко пользовалась, а против необязательности этого смешения, вызванного, возможно, не замыслом, а неаккуратностью или даже отсутствием слуха. Еще она сказала погодя: «Это вещь новая», что я понял не как одобрение, а главным образом как — не наша. И наконец, как бы мимоходом бросив в придаточном предложении: «…эта единая сюита», дала мне почувствовать разницу между ее пониманием того, что такое поэма, и моим тогдашним о поэме представлением.
Тогда, двадцать пять лет назад, я хотел слышать, и слышал, похвалу в ее отзыве об этой «юношеской» поэме, как и в других случаях о других стихах. Сейчас я на этот счет не обольщаюсь, я только отмечаю, что ее оценка была деловая, профессиональная и что в ней не было и тени «старика Державина». Но сейчас я знаю также, что это была не обычная ахматовская «пластинка».
Пластинками она называла особый жанр устного рассказа, обкатанного на многих слушателях, с раз навсегда выверенными деталями, поворотами и острыми местами, и вместе с тем хранящего—в интонации, в соотнесенности с сиюминутными обстоятельствами — свою импровизационную первооснову. «Я вам еще не ставила пластинку про Бальмонта?., про Достоевского?., про паровозные искры?» — дальше следовал блестящий короткий этюд, живой анекдот наподобие пушкинских table‑1а 1к с афоризмом, применимым и применявшимся впоследствии к сходным или обратным ситуациям. Будучи записанными ею — а большинство она записала, — они приобретали внушительность, непреложность, зато, как мне кажется, теряли непосредственность.
Так вот, иногда — кстати сказать, не так часто, как можно предположить,^- люди, пишущие стихи, обращались к ней затем, чтобы услышать ее оценку. Она просила оставить стихи, начинала читать и, если они оставляли ее равнодушной — а редко так не бывало, — ограничивалась чтением нескольких строчек, реже — стихотворения целиком. При этом, когда автор приходил за ответом, она старалась не обидеть и говорила что–нибудь необязательное, что из ее уст могло быть воспринято как похвала. И тут тоже были «пластинки», две–три сентенции, которые успешно употреблялись в зависимости от обстоятельств.
Если в том, что она прочла, было описание пейзажа, Ахматова говорила: «В ваших стихах есть чувство природы». Если встречался диалог — «Мне нравится, когда в стихи вводят прямую речь». Если стихи без рифм — «Белые стихи писать труднее, чем в рифму». Тот, кто после этого просил посмотреть «несколько новых стихотворений», мог услышать: «Это очень ваше». И наконец, в запасе всегда было универсальное: «В ваших стихах слова стоят на своих местах».
Читать дальше