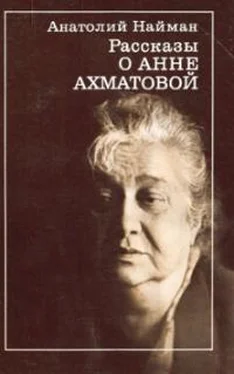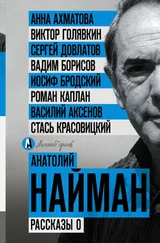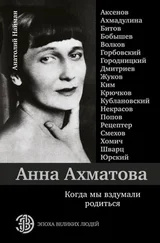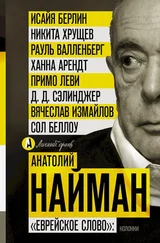Ахматова встретила революцию совершенно сложившимся человеком, с устоями и критериями, которых впоследствии не меняла. Этим, а не только строгой и уверенной манерой поведения объясняется, в частности, то, что тридцатилетних ее и Мандельштама считали, называли и видели стариками. Ее воспитала петербургская двухсотлетняя и — шире — русская нескольковековая культура. Усвоенные ею ценности были обеспечены содержанием огромного периода истории, нравственная оценка происходящего была та же, что. скажем, у княгини Анны Кашинской, или княгини Анны — жены Ярослава Мудрого, или у пророчицы Анны. Она рассказала про свою приятельницу: через несколько лет после революции та стирала в тазу белье на коммунальной кухне уплотненной квартиры. Прибежала дочка из школы и, проходя мимо, легко, хотя и не без вызова, произнесла: «Мам, а Бога нет». Мать, не прекращая стирать, устало ответила: «Куда ж Он девался?» Ахматова не соглашалась сбрасывать с «корабля современности» объявленный ненужным культурный балласт, не отказывалась от проверенного старого ради рекламируемого нового. Поэтому когда она отзывалась на твое «ау», звук каждого ее слова будил эхо в уходящей неизвестно куда перспективе эпох, а не ударялся об недалекую стенку нового времени.
Она была невысокого мнения об эстрадной поэзии конца 50‑х — начала 60‑х годов. При этом качество стихов, как я заметил, играло не главную роль, она могла простить ложную находку, если видела за ней честные поиски. Неприемлемым был в первую очередь душевный строй их авторов, моральные принципы, соотносимые лишь с сиюминутной реальностью, испорченный вкус.
Молодой московский поэт, мой знакомый, попросил договориться о встрече с яеЙ. Я сказал ей об этом, рекомендовал его, она спросила, не помню ли я каких–то его стихов. Я прочел две строчки из юношеского стихотворения: «Ко всем по–разному приходит осень — стихами, женщинами, вином». «Слишком много женщин», — произнесла она. Но принять не отказалась.
Или о входившем тогда в моду поэте, которого условно назову Альбертом Богоявленским: «Как может называть себя поэтом человек, выступающий под таким именем? Не слышащий, что русская поповская фамилия несовместима с заморским опереточным именем!» И когда я попытался защитить его, мол, спрос с родителей, последовало: «На то ты и поэт, чтобы придумать пристойный псевдоним».
Как–то раз принесли почту, она стала читать письмо от Ханны Горенко, ее золовки, я — просматривать «Новый мир». Через некоторое время она подняла голову и спросила, что я там обнаружил. «Евтушенко». Она попросила прочесть стихотворение на выбор: «А то я его ругаю, а почти не читала». Стихи были про то, что когда человеку изменит память и еще какая–то память, вторая (кажется, сердца), то е ним останется третья: «Пусть руки вспомнят то–то и то–то, пусть кожа вспомнит, пусть ноги вспомнят пыль дорог, пусть губы…» В стихотворении было строф десять, я заметил, что после третьей она стала слушать невнимательно и заглядывать в недочитанное письмо. Когда я кончил, она сказала: «В какой–то мере Ханнино письмо скрасило впечатление… Какие у него чувствительные ноги!»
В других стихах, которые я прочел в электричке по пути в Комарово, модный в то время ленинградский поэт вымученно и не очень изобретательно варьировал такую тему: дескать, в грядущем веке появится врзможность искусственно воссоздавать людей, живших прежде И тогда плохие, так сказать, реакционеры, будут воспроизведены во многих экземплярах, чтобы служить наглядным пособием в школах, а хороших, прогрессивных — более чем 8 одном вылепить не удастся. Я запомнил только, что Магометов будет чуть йе полтора десятка, а вот Маяковский — один. «Позвольте, — сказала Ахматова, — это не только пошло, это еще и выгодно».
Вскоре после революции у нее на глазах произошло то, что гордо и глубокомысленно стало называть себя переориентацией интересов поэзии. Однако внешняя убедительность формулы, апломб, с которым она произносилась, были призваны в первую очередь обмануть читателя, внушить ему законность измены тому, отказа от того, что делает стихи поэзией. Только частное мнение, особый взгляд — словом, личные стихи наделены правами представительствовать «за всех», говорить «от имени всех», точнее каждого То есть: и я помню чудное мгновенье, и от меня вечор Лейла, и вообще он все это «про меня сказал».
Новая установка говорить «от имени народа», «за всех людей» разворачивала взгляд поэта, теперь он должен был направляться не внутрь, а вовне. Допускалось (и поощрялось! совпадение обоих направлений с непременным первенством нового. «Мы» вытесняли из поэзии «я», впрямую и прикровенно: скажем, «я разный, я натруженный и праздный», несмотря на индивидуальность опыта и переживания, годилось, потому что предполагается, что «как и многие», «вместе с другими»; а что- нибудь вроде «все мы бражники здесь, блудницы» — по понятным причинам нет, Множество предметов и тем, так называемых изжитых или камерных и потому осмеянных, стали официально и, что несравненно существенней, по велению сердца запретными. Не свое по возможности обобщалось, а общее, по замыслу, усваивалось. Автор в самом деле шел навстречу читателю, умело вербовал его, получал многотысячную аудиторию, но спекулируя на поэзии, давая читателю все, что тот хочет, а не то, что он, автор, имеет. Ахматова сказала о В—ском, в 60‑е годы быстро набиравшем популярность: «Я говорю со всей ответственностью: ни одно слово своих стихов он не пропустил через сердце».
Читать дальше