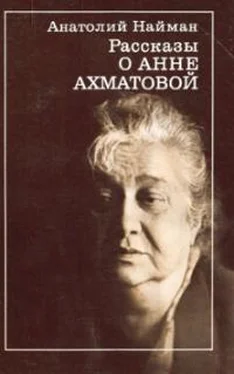В конце того вечера, когда я прочитал ей поэму, она рассказала, как Инна Эраэмовна, ее мать, прочитав какие–то стихи Ахматовой (или даже выслушала их от нее?), неожиданно заплакала и проговорила: «Я не знаю, я вижу только, что моей дочке — плохо». «Вот и я сейчас вижу, что вам — плохо». Собственно говоря, с этого дня мы и стали видеться часто и разговаривать подолгу.
Вообще же она была в то время невысокого мнения даже о поэзии тех молодых, чьи стихи как–то выделяла. Это все было дикарство, в лучшем случае «пройденный ликбез», как однажды припечатала она. Как–то раз мы сидели на веранде, глядели на сосны, траву, вереск, и она с насмешливым выражением лица говорила: «Коля стоял высокий и прямой против высокого же, но сутулившегося Горького и менторским тоном назидал: «Вы стихов писать не умеете и заниматься этим не должны. Вы не знаете основ стихосложения, не различаете размера, не чувствуете ритма, стиха. Словом, не ваше это дело». И тот слушал покорно. А я наблюдала эту сцену, и мне было скучно».
Тут уместно привести целиком ее письмо 1960 года. Я получил его из ее рук, хотя написано оно не мне, вернее не именно мне. Это одно из «писем к NN», которые наиболее основательный исследователь ахматовской поэзии Тименчик назвал посланиями «на предъявителя». В последнее десятилетие жизни она написала их несколько, и несколько человек, один из них я, могли бы с достаточным основанием, ссылаясь на ту или иную конкретную фразу, считать себя их адресатами. То, о котором идет речь, лежало в старом итальянском сундуке, креденце, стоявшем в ее комнате и полном рукописями, папками, тетрадями, старыми корректурами и т. п, 8 один из зимних дней 1964 года, прервав беседу, коснувшуюся тогдашнего поэтического бума и поворота в ее судьбе (публикация на Западе «Реквиема», итальянская премия и т. д.), она сказала: «Откройте креденцу и найдите там–то такое–то письмо». Я нашел, в него был вложен еще один исписанный лист, о котором разговбр дальше. «Это вам». Я прочел оба и положил листки на стол. «Это вам». Я поблагодарил и спрятал их в карман, она заговорила на другую тему.
«На целый ряд Ваших писем мне хочется ответить следующее.
Последнее время я замечаю решительный отход читателя от моих стихов. То, что я могу печатать, не удовлетворяет читателя. Мое имя не будет среди имен, которые сейчас молодежь (стихами всегда ведает молодежь) подымет на щит 3.
Хотя сотня хороших стихотворений существует, они ничего не спасут. Их забудут.
Останется книга посредственных, однообразных и уж конечно старомодных стихов. Люди будут удивляться, что когда–то в юности увлекались этими стихами, не замечая, что они увлекались совсем не этими стихами, а теми, которые в книгу не вошли.
Эта книга будет концом моего пути. В тот подъем и интерес к поэзии, который так бурно намечается сейчас, — я не войду, совершенно так же, как Сологуб не переступил порог 1917 года и навсегда остался замурованным в 1916. Я не знаю, в какой год замуруют меня, — но это не так уж важно. Я слишком долго была на авансцене, мне пора за кулисы.
Вчера я сама в первый раз прочла эту роковую книгу. Это хороший добротный третий сорт. Все сливается — много садов и парков, под конец чуточку лучше, но до конца никто не дочитает. Да и потом насколько приятнее самому констатировать «полное падение» (chute complete) поэта. Мы это знаем еще по Пушкину, от которого все отшатнулись (включая друзей, см. Карамз.).
Между прочим (хотя это уже другая тема), я уверена, что сейчас вообще нет читателей стихов. Есть переписчики, есть запоминатели наизусть. Бумажки со стихами прячут за пазуху, стихи шепчут на ухо, беря честное слово тут же все навсегда забыть, и т. д.
Напечатанные стихи одним своим видом возбуждают зевоту и тошноту — людей перекормили дурными стихами. Стихи превратились в свою противоположность. Вместо: Глаголом жги сердца людей — рифмованные строки вызывают скуку.
Но со мной дело обстоит несколько сложнее. Кроме всех трудностей и бед по официальной линии (два постановления ЦКа), и по творческой линии со мной всегда было сплошное неблагополучие, и даже, м. б., официальное неблагополучие отчасти скрывало или скрашивало то главное, Я оказалась довольно скоро на крайней правой (не политич.). Левее, следственно новее, моднее, были все: Маяковский, Пастернак, Цветаева. Я уже не говорю о Хлебникове, который до сих пор новатор par excellence. Оттого идущие за нами «молодые» были всегда так остро и непримиримо враждебны ко мне, напр. Заболоцкий и, конечно, другие обереуты. Салон Бриков планомерно боролся со мной, выдвинув слегка припахивающее доносом обвинение во внутренней эмиграции. Книга обо мне Эйхенбаума полна пуга и тревоги, как бы из–за меня не очутиться в лит. обозе. Через несколько десятилетий все это переехало за границу. Там, для удобства и чтобы иметь развязанные руки, начали с того, что объявили меня ничтожным поэтом (Харкинс), после чего стало очень легко со мною расправиться, что не без грации делает, напр., в своей антологии Ripolino. Не зная, что я пишу, не понимая, в каком положении я очутилась, он просто кричит, что я исписалась, всем надоела, сама поняла это в 1922 и так далее.
Читать дальше