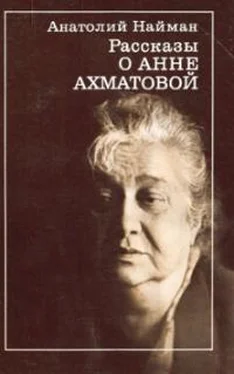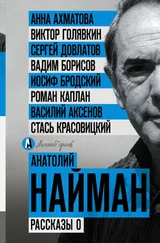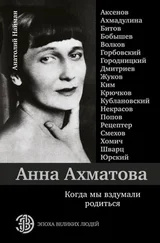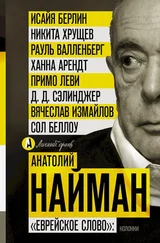Повторяла две последние строки и прибавляла: «Какой удар со стороны корейской гейши!» Но не в курьезном сопоставлении и не в остроте было дело.
Голос, выпевающий слова, которых слушатель не может опознать, однако явно им узнаваемый — или кажущийся ему знакомым, — это и был поэтический голос Ахматовой, который она начала ставить уже в первых своих стихах.
Как ты звучишь в ответ на все сердца, Ты душами, раскрывши губы, дышишь. Ты, в приближенье каждого лица, В своей крови свирелей пенье слышишь! —
написал ей Недоброво, варьируя одну из главных тем своей статьи «Анна Ахматова». Статья эта появилась в 1915 году в «Русской мысли» и была первым серьезным разбором ахматовской поэзии и, следует прибавить, единственным разбором такого рода. Этот увлекательный научный анализ впечатляет не только остротой и основательностью наблюдений, бесспорностью выводов, свежестью открытий, но и словно бы указывает поэтессе, какое еще направление открыто для нее, что может оказаться плодотворным и какое из продолжений бесперспективно. Теперь, когда виден весь путь Ахматовой, ощущение новизны мыслей Недоброво в значительной степени приглушено ясностью, заметностью их источника в самих стихах. Но статья была написана об авторе двух первых книжек, «Вечера» и «Четок», и многое из того, к чему впоследствии пришла Ахматова, было лишь подтверждением, если угодно, принятием предложенного критиком. Когда я сказал ей об этом моем впечатлении от статьи, которую, кстати сказать, она же мне и дала, Ахматова, и прежде в разговорах выделявшая Недоброво среди выдающихся людей своего времени, и прежде вспоминавшая о влиянии, которое он на нее имел, сказала просто: «А он, может быть, и сделал Ахматову».
В «Листках из дневника» Ахматова вспоминает, как прочла Мандельштаму кусок из «Божественной комедии» и он заплакал: «Эти слова — и вашим голосом». То же самое можно сказать о множестве мест в ее стихах. Но если в 1922 году знаменитые дантовские слова:
Ти proverai si come sa di sale Lo pane altrui, e сот'ё duro calie Lo scendere e'l salir per altrui scale
(«Ты по себе узнаешь, как горек хлеб чужой и как тяжело спускаться и всходить по чужим ступеням») — произнесены ее голосом как бы в вольном пересказе:
Но вечно жалок мне изгнанник, Как заключенный, как больной. Темна твоя дорога, странник. Полынью пахнет хлеб чужой, —
то через сорок лет восклицание Данте:
Men che dramma Di sangue m'e rimaso che non tremi: Conosco i segni dell' antica flammal
(«Меньше чем на драхму осталось во мне крови, которая бы не трепетала: узнаю знаки древнего пламени!») — звучит куда более засекреченно:
Ты стихи мои требуешь прямо. Проживешь как–нибудь и без них. Пусть в крови н«осталось ни грамма. Не впитавшего горечи их.
Цитату выдает рифма dramma — iiamma и прямо — грамма, но, выдав, втягивает в головокружительную воронку цитат, ибо последний стих дантовской терцины, обращенной к Вергилию, это слова вергилиевской Дидоны, точно переведенные Данте из «Энеиды»; а предыдущее ахматовское стихотворение в цикле «Шиповник цветет» открывается стихом из «Энеиды» и первоначально называлось «Говорит Дидона».
Выявлению «чужих голосов» в поэзии Ахматовой посвящены многочисленные филологические труды последних двух десятилетий, упоминание об использовании ею чьих–то текстов стало общим местом. То, что открыли Т. В. Цивьян, Р. Д. Тимен- чик, В. Н. Топоров, проникнув за второе дно ее «Роковой шкатулки», теперь уже всегда будет просвечивать сквозь прозрачность стихов «третьими, седьмыми и двадцать девятыми», если воспользоваться ее же фразой, планами. Одно время началась настоящая охота за цитатами в ее стихах, и дело выглядело беспроигрышным: всегда что–то обнаруживалось. Казалось, Ахматова читала — все, заимствовала — отовсюду. Результаты сопоставлений зависели в основном от мнемонических способностей со- поставнтелей. Перечитывая ее стихи 1921 – 1922 годов, я наткнулся, например, на батюшковский слой, особенно концентрированный в стихотворениях, написанных зимой в Слепневе. В частности, оказалось, что и упомянутый дантовский «хлеб чужой» введен Ахматовой в стихи не непосредственно, а через «Умирающего Тасса» Батюшкова:
.. Младенцем был уже изгнанник; Под небом сладостным Италии моей Скитался, как бедный странник, Каких не испытал превратностей судеб?
Где мой челнок волнами не носился? Где успокоился? где мой насущный хлеб Слезами скорби не кропился?
Но о чем свидетельствовали эта и подобные находки? Только ли иллюстрировали они ахматовский афоризм:
Читать дальше