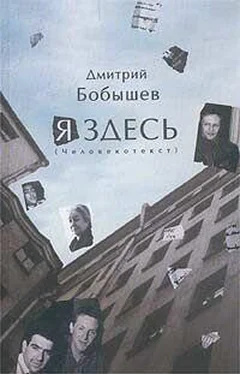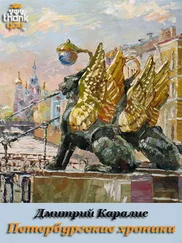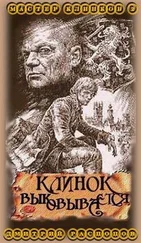— Ты поправился, Дима, — замечает он. — Был такой тоненький юноша…
— Так что ж, Булат, питание хорошее, жизнь спокойная. Да и возраст располагает… Впрочем, ты, кажется, худеешь с годами.
— Да, это так. А ты ведь вроде бы раньше курил? Курил. А теперь бросил, вот и поправился.
Неужели нам не о чем больше поговорить? Мы прощаемся — его жена, тоже Ольга, следит за расписанием.
А еще через два года я получаю от него письмо:
“Здравствуй, дорогой Дима!
Подарили мне в Москве твою петербургскую книжку “Полнота всего”. Прочитал ее с большим удовольствием и очень порадовался за тебя. Хотел написать тебе, да было лень, да и адреса не знал.
А тут под впечатлением твоих стихов получилось о тебе маленькое стихотвореньице. Ну, тут я, конечно, сообразил позвонить Толе, и взял у него твой адрес, и пишу.
Надеюсь, ты здоров, и все у тебя хорошо.
Я зарылся на даче. Понемногу пишу. В основном, прозу. В Москве бываю редко и в крайнем случае.
На всякий случай — мои координаты…
…Кланяйся дома. Обнимаю. Булат.
Дима Бобышев пишет фантазии
по заморскому календарю,
и они долетают до Азии —
о Европе и не говорю.
Дима Бобышев то ли в компьютере,
то ли в ручке находит резон…
То, что наши года перепутали,
навострился распутывать он.
Дима Бобышев славно старается,
без амбиций, светло, не спеша.
И меж нами граница стирается,
и сливаются боль и душа.
Б.Окуджава
9.11.92,Москва”.
Вот теперь бы и поговорить, да уже — когда? Стихами я ему ответил, написав “Университетскую богиню” с эпиграфом из знаменитой “Комсомольской богини”… В поздние годы массовая популярность его несколько обесцветилась, выцвела, как флаг на ветру. Отошла к старшим. А молодежь увлеклась Хрипатым до самозабвенья, до мстительных уколов и нападок на Булата. Бродский вообще поместил всю итээровскую интеллигенцию (читай: “образованщину”) “меж Булатом и торшером”.
И вот вдруг Окуджава умер, оказавшись в очередной раз в Париже. Вдова жаловалась на непонимание в больнице, на отсутствие переводчика. Это страшное, малопонятное и всем нам, живым, предстоящее действо совершилось 12 июня 1997 года.
Я оказался в тот день в Нью-Йорке, по пути из нашего под-Чикажья в Россию, на “Ахматовские чтения”, куда я вез доклад “Преодолевшие акмеизм”. В Бруклине, в газетном киоске, мне бросился в глаза заголовок: “Умер Булат Окуджава”. Я купил газету — то был “Вечерний Нью-Йорк”, тамошняя эмигрантская “Вечерка”. Главный редактор в своей передовице грустил о потере знаменитого барда, автора столь любимых народом песен, таких, как “Из окон КУРОЧКОЙ несет поджаристой…” Что это — опечатка? Шутка? Эх, Бруклин, Бруклин…
Как-то придя ко мне с ослепительной Асей Пекуровской, Иосиф, конечно, похвалялся ею передо мной на бессловесном языке, понятном зверюшкам и птицам, и я испытал укол платонической ревности. Это сообщало нашему приятельству соревновательный оттенок, который, впрочем, и без того присутствовал.
Именно так, соревновательно, но весело, он втравил меня в одну трудоемкую затею: переводить вместе с испанского, которого не знали ни он, ни я, но зато дело было верное и публикация, по его словам, была гарантирована. Поэт-то был кубинский — Мануэль Наварро Луна, в трескучих стихах воспевающий шхуну “Гранма”, на который бородатый Команданте прибыл на Кубу наводить свой порядок, ну и, конечно, себя самого.
Меня смущал пропагандистский характер стихов, но Жозеф убеждал, что “барбудос” — это ничего, даже забавно и вполне приемлемо для двух джентльменов, находящихся в поисках дополнительных заработков. Готовясь к экспедиции, он сам стал запускать бороду, рыжина которой оказалась заметней, чем в волосах на голове. Эдаким барбароссой он укатил в Якутию, а я стал за двоих переводить романтическую чепуху нашего кубинца.
Оттуда (из Якутии, конечно, а не с Кубы) стали приходить письма. Листки были исписаны самым немыслимым почерком: палки и крючки, палки и крючки, которые лишь изредка, да и то случайно, складывались в слова. Смысл их состоял в том, что я могу поступать с нашими переводами, как хочу, а он, Иосиф, посылает этого Команданте подальше.
В досаде на него за потраченные попусту усилия и время я весь ворох бумаг, включая письма, вышвырнул на помойку под аркой во дворе дома № 16 по Тверской улице.
По его возвращении (“Забудем, Деметр, этого проклятого Команданте”) мы довольно часто виделись с Жозефом: он тогда писал “Шествие” и, обрушив на меня сначала значительную порцию ритмически насыщенного текста, затем знакомил с ходом дела (довольно бурным) поглавно. Замысел предполагал бесконечное течение поэмы, ведь это была, по существу, улица с незатихающим шествием прохожих — та самая, видимая с балкона их гостино-спально-столовой, где почти вровень с окнами висел уличный знак для автомобилистов: круговое движение по периметру площади, в центре которой стоял собор Преображенского полка. Три стрелки на знаке жалили в хвост одна другую, замыкая круг и рождая мысли о бесконечном. Я заговорил с Жозефом о мистике, предполагая в нем способность вырваться за пределы повторяющейся реальности, и этот ход я угадывал в той тьме, откуда уже появился однажды его черный конь. Он слушал, надо признаться, скептически, однако при следующей встрече прочел мне кусок, значительно отличающийся от прочих. В стихах появился любовник-оборотень, получеловек-полуптица, весьма странное существо, но до мистического откровения, на которое я надеялся, все-таки не дотягивающее. Правда, его появление преломило ход бесконечной поэмы, перевело ее на коду, где, удачно перефразировав цветаевского “Крысолова”, поэт закончил, увы, довольно банальным чертом и не менее банальным признанием, что “существует что-то выше человека”. Оставалось только во вступительном слове назвать поэму “гимном баналу”, что автор и сделал.
Читать дальше