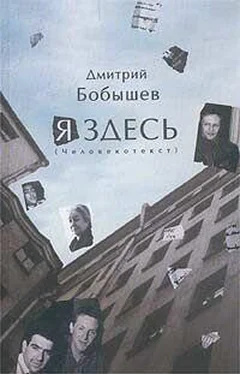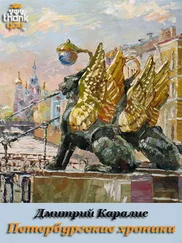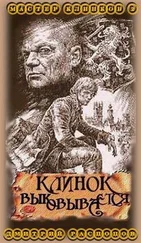Позднее мне пришлось защищать эту поэму перед Даниилом Граниным, и обстоятельства разговора с ним стоят изложения. Лавры Государственной (бывшей Сталинской) премии украшали седеющие виски и жесткие волосы этого осторожного либерала. Научная интеллигенция видела в нем свой общественный образец, и он старался ему соответствовать. Разумеется, по мере возможности и насколько позволяла обстановка… В то довольно паршивое время он был председателем Комиссии по работе с молодыми авторами при Союзе писателей.
Однажды он попросил у меня рукописи, чтобы ознакомиться с тем, что я делаю, а затем пригласил домой для разговора — жил он напротив “Ленфильма”, на улице братьев Васильевых (теперь, кажется, Малая Монетная), а я тогда — на Максима Горького (Кронверкский проспект), в двух минутах ходьбы проходными дворами. Еще в прихожей он начал расспрашивать о здоровье как старика или инвалида. Я удивился такому необычному участию, сослался на легкую простуду, обычное дело для жителей Северной Пальмиры, но он продолжал расспрашивать, и мне пришлось рассказать о тяжелом ранении, об операции, и, увидев, что его интерес ко мне катастрофически падает, я смолк, недоумевая.
Боязнь гриппа? Нет. Сочувствие? Нет. Холодное писательское любопытство? И это — нет. Впоследствии Довлатов, которого он таким же образом приглашал и так же расспрашивал, мне все объяснил. Оказывается, у Гранина было твердое убеждение, что писательство может быть успешным только при крепком здоровье как условии № 1. Что ж, это нелишне и при любом занятии!
Все же его расспросы расположили к доверительному разговору: ведь и у него — научно-техническое образование, и он из него как-то вырвался в литературу…
— У меня только один рецепт: делайте, как я. После ЛЭТИ я работал в “Ленэнерго”, и там кое-что написал и наметил свои письменные планы. Потом поступил в аспирантуру и за два года вместо диссертации сочинил книгу. Публикация. Союз писателей. Пока жил на гонорары от первой книги, написал вторую. Премия.
В моей поэме “Опыты” его заинтересовал сбой синтаксиса в строфах о взгляде на пространство извне — “Снаружи, да. Снаружи, нет”.
— Что это?
— Это — прием. Голоса в диалоге раздваиваются, получается зеркальная полифония.
— А похоже на теперешние научные идеи. Амбивалентность пространства…
— Все ж это — результат формального приема. Что не исключает появления второго и третьего смысла…
Помолчал. Потом спросил:
— А что вы думаете о Бродском?
— Очень одаренный автор. Поэт!
— Но ведь его “Шествие” — это неудача. Бесформенность…
— Композиция — да, не организована. Но есть и очень сильные стороны.
— Какие?
— Замысел: уличная толпа — как шествие персонажей. Некоторые куски отменны. Потом: ритмы и общий разгон показывают его потенциал как поэта.
Мы попрощались. Ни он, ни его Комиссия “по борьбе с молодыми”, как ее называли, никогда и ничего не сделали для меня. И — ни для Бродского. Ни хорошего, ни плохого.
Колючие глаза, тонкие губы пассатижами, раздвоенный на конце нос.
Помимо нашей компании Иосиф находил авторитетные мнения где-то на стороне. Прежде всего, среди геологов, но не “Глеб-гвардии-семеновцев”, а других, тех, с кем он связан был по двум с половиной или полутора экспедициям, в которых участвовал. Однажды он пригласил меня на чтение в общежитие “к ребятам из Горного”. Долго трамвай наш скрежетал по насквозь пролитературенному городу: сначала по Литейному, затем сворачивая на Белинско-Симеоновскую и с моста через Фонтанку, где когда-то привиделся Блоку припорошенный белым Антихрист (не Андреем ли Белым?), мимо цирка, где у боковых ворот топтались еще не написанные поздним Найманом львы и гимнасты, и — по Садовой мимо Публички с халатно облаченным Крыловым в окне, мимо Гостиного и Апраксина дворов со всегдашними модными лавками, где Натали Гончарова “случайно” встречала царя, а муж ее, возможно, рылся в это время в книгах у Смирдина, и, разгоняясь через Сенную, где секли погулявшую налево сестру некрасовской музы, трамвай замедлял ход у решетки Юсуповского сада, чтобы свернуть на Майорово-Вознесенский проспект и выкатить со скрипучим разворотом к Николе Морскому, где будут отпевать Ахматову (а мы с ней еще и не познакомились), где и мне суждено увидеть золотое кладбище на крыше подворья… У школы, где была “Зеленая лампа” братьев Всеволожских, — поворот на наше Жозефо-Деметрово перекрестье-противоборье, что настанет еще не сейчас, но уже очень скоро, а пока — мимо Консерватории с Мариинкой, через Поцелуев мост с его Морским караулом, за площадь с воткнутым в нее Конногвардейским бульваром, на Николаевский, он же — мост лейтенанта Шмидта и, следовательно, имени пастернаковской поэмы, через черно-чугунную, свинцово-серую с мелкой цинковой рябью Неву — на Васильевский остров.
Читать дальше