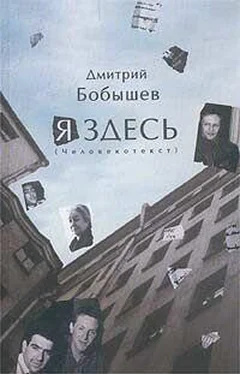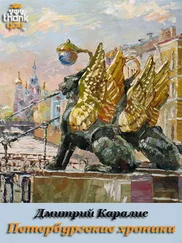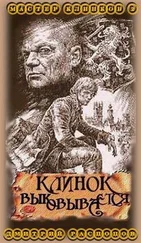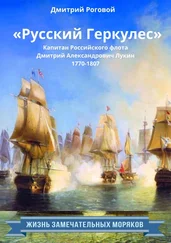На этот счет Жозеф излагал мне отдельно свою живиальную философию:
— Настоящий мужчина должен быть брутальным,
Или:
— Настоящий мужчина должен переболеть триппером — хотя бы ради верного взгляда на женщин.
Или:
— В уборной человек отделяет Я от не-Я.
Или (возможно, цитируя кого-нибудь из великих джазистов):
– “Я и мой саксофон остались вдвоем. Так чем же мы не компания?”
И — зажигал спички об откуда-то перепавшие ему американские джинсы. Признаться, не все положения этой философии мне подходили, но спички зажигать о седло я у него научился.
Однажды после работы я задержался на приеме у зубного врача. Я следил за собой и, желая нравиться моей миловидной жене, не пренебрегал визитами к дантисту, хотя бы для профилактики. Вернувшись, я услышал почему-то не от Натальи, а от тещи:
— К вам заходил уж не знаю кто — ваш друг? Приятель? На письменном столе он оставил записку.
В пишущую машинку, выпрошенную накануне у тещи, был вставлен лист бумаги с таким знаменательным текстом:
“Деметр!
Пока ты там ковырялся в своих желтых вонючих зубах, я написал гениальные стихи. Вот они:
Ни страны, ни погоста
не хочу выбирать.
На Васильевский остров…”
И т. д. И — подпись от руки: “И. Бродский”.
Первый мой вопрос был: “Где он нашел на Васильевском темно-синий фасад? Там — все серые и голубые”. Второй: “Сколько времени на глазах моих близких (и — близких врагов) красовалась его паршивая и плоская шутка?” Я скомкал листок и бросил его в корзину. Жозеф исчез надолго.
Прошел слух, что в Ленинград приехали ну все-все новейшие московские знаменитости, полупризнанные властями: Ахмадулина, Вознесенский, Евтушенко, Окуджава, а с ними и ряд прославленно-признанных, что было куда менее интересно. Надо сказать, что первые своим половинным признанием дорожили и пользовались, даже его умело продлевая, ради своей растущей за мыслимые пределы популярности. Их уже баловали привилегиями системы, а они принимали их, естественно, как плату за талант и труды, очень, конечно, немалые, но перед выступлениями неизменно накладывали тень гонимости, как грим на лицо, и публика их за это еще крепче любила.
Приехав, они расселились по люкс-номерам привокзальных гостиниц и объявили смотрины местных талантов.
У Беллы было трезво и чопорно; она и сама этим тяготилась. Почитали. Послушали голосовые гирлянды и трели ее вдохновенной, велеречивой поэмы о предках (даже, на удивление, итальянских), чья миссия благополучно завершилась рождением Беллы. Из примыкающего покоя выглянул на минуту ее новый муж — коренастый, густо-седой, со сморщенным лицом и цепкими глазами: писатель Юрий Нагибин. За его раннюю повесть “Трубка” сам Сталин подарил ему свою… трубку? Нет, премию. Сталинскую притом. Это оставалось высокой маркой и в после-, и в анти-сталинские времена. Написал несколько свежих рассказов, чего от лауреатов и не требовалось. И — без счету киносценариев, которые ставились, шли в прокат и почти анонимно орошали из золотой лейки их с молодой женой вертоград. Исчез.
Евтушенко. Помещение поскромней, но народу побольше, чем у его бывшей жены. На столах накиданы листы черновиков с минимальной правкой: видно, что пишет единым духом сразу по несколько строф. А самого — нет. Угощаться тоже нечем. Наконец, является: высокий, в светлых брюках и ярко-красном пуловере.
— Какой интересный свитер на вас, Женя! — замечаю я на правах “старого знакомого”.
— Свитер? У меня их полно. Смотрите…
Вынимает из шкафа один пестро-шерстяной предмет, швыряет в мою сторону. Не в меня, но так, чтобы я мог поймать. А я не собираюсь ловить, и вещь падает на пол. Еще, еще и еще одна. Найман смотрит на меня одобрительно. Так эта куча и остается лежать на полу.
— Ну, почитайте лучшее!
Моложавый мастер слушает рессеянно, с сочувственным интересом смотрит лишь на старшего среди нас — Горбовского, читающего стишок про циркового ослика, у которого “кульками уши”:
Служит ослик, как я, искусству.
— Сколько уж лет этот “Ослик” остается его самым лучшим! — замечает мой язвительный друг.
Что ж, он в этот момент прав. Пора бы и грохнуть чем-нибудь поувесистей. Но “Фонарики” еще не написаны, а “Квартиру № 6” и “Мертвую деревню” Глеб читать не решается. Вот “Ослик” и вывозит…
Теперь уверенно выступает Сам: он знает, как здесь, в этом городе, тяжело пробиться в печать, и дело даже не в сталинистах, их время вышло. Но появляется новый тип бюрократа — молодой приспособленец, мальчик “чего изволите”. Вот они-то, эти “мальчики”, и задерживают прогрессивные преобразования в обществе. Он сам только что выпустил свою одиннадцатую книгу стихов, но не ради славы — зачем ему она? — а ради того, чтобы у нас вышли наши первые…
Читать дальше