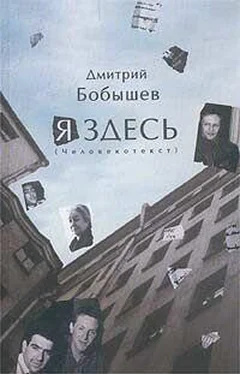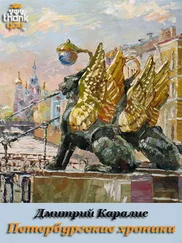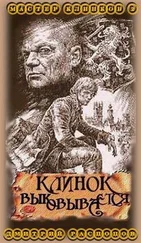— Все же оседлал он своего коня… — сказал я тогда его матери и вспомнил, конечно, стихотворение, которое написал Иосиф в период наших частых общений, странное, романтическое и даже демоническое. Он читал его, прямо заходясь голосом:
В тот вечер возле нашего огня
Увидели мы черного коня…
В стихотворении нагнетались мрачно повторяющиеся образы наружной и внутренней черноты и была зловещая, многозначительная концовка:
Он всадника искал себе средь нас.
Оседлал…
Александр Иванович, его отец, тоже воспринял меня хорошо, войдя с улицы в первый раз, когда я был у них, в морской шинели без погон, что напомнило мне не только об отчиме Василии Константиновиче, но и о месте, где все мы жили: ведь то был морской порт, Балтика. У него тоже, как у моего отчима, видимо, были какие-то утопические планы относительно “спасения” сына. Узнав, что я инженер (и, конечно, поэт), он горячо и сумбурно-тревожно заговорил:
— Вот, вы инженер, убедите его… Как можно так жить? Ведь не учится, не работает! А мы с его матерью…
— Отец, хватит! — оборвал его Жозеф и, уводя меня в свой закут, тихо, но внятно произнес:
Сед, как лунь.
И — глуп, как пень.
Этот афоризм дальнейшего хождения через меня не получил, но вспоминал я его не раз, когда приходилось иметь дело с поколением наших отцов и отчимов, которые всегда и в точности знали, как нам жить. Правда, и Жозеф не мог на “коней” своих жаловаться: блинчики с творогом у него всегда оказывались на столе, мать перед уходом рубашку в тон выдавала, воротничок поправляла, отец вот свою пишущую машинку ему в закут поставил. А мне мою тещеньку, между прочим, каждый раз приходилось просить о машинке. Конечно, он был от многого зависим, но свободен, в отличие от меня, тяготившегося обратной комбинацией. Школу бросил, когда надоела чушь, которую порет учитель. Работа? Последняя была в монтажной бригаде на Балтийском заводе. Ему нужно было лазать в трубы, проверять их после сварки. Однажды он сошел с трамвая: завод был в одной стороне, а солнце всходило с другой — огромный красный диск. И он пошел в сторону солнца.
Отец не оставлял своей идеи трудоустроить сына: нашел ему работу на маяке. Романтично, не правда ли? Нет, через день тот ушел.
Я изумился:
— Что ж может быть лучше? Сидишь один. Светишь. Пишешь стихи…
— Если бы так! А меня этот моржовый поц в отставке пытался заставить лестницы драить…
— Кто-кто?
— Да отставной боцман, смотритель… А я ведь не поломойка.
А как же армия, военкомат? Как они упускают такого здорового парня? Оказалось, здорового, да не совсем. Белобилетчик. В дальнейшие вопросы я не вдавался, это считалось деликатной сферой, где каждый “косил” от армейской службы по-своему, я придумал лишь рифму на слово “белобилетчик” — “было бы легче”…
Выражение, пришедшее из будущего, — “невыносимая легкость бытия” наваливалась на каждого из нас. Нуждаясь друг в друге как слушателях и ценителях стихов, мы для того и встречались, и не только по своим домам, но и у пишущих друзей — Наймана, Рейна, Авербаха; стала прорезаться Люда Штерн, собирая порой общество у себя. Она предложила мне выпустить машинописный сборник стихов, и он, тиражом в пять экземпляров, вышел под названием “Партита”, потому что в памяти у меня в ту пору непрерывно звучала баховская “Партита № 6” в исполнении Глена Гульда. А остальные экземпляры, недостающие до нормальных издательских десяти тысяч, я практически начитывал людям устно. Иосиф мечтал выступить в сопровождении джаза и ностальгически восклицал в стихах: “Играй, играй, Диззи Гиллеспи…” Мы, все четверо, а порой и в расширенном составе, стали читать полуофициально в разных местах и разных комбинациях друг с другом: математический факультет, кафе поэтов, преображенное из столовой, Институт высокомолекулярных соединений. Некоторые из комбинаций бывали забавны…
Так, однажды Толя меня зазвал выступить с ним в одной программе с укротителем крокодилов и клоуном. Появились приверженцы и поклонницы, “львы и гимнасты”, — цитируя позднего Наймана. Минна Попенкова, приятельница Гали Наринской, распространяла мои стихи по Москве. Ее приезд внезапно изменил мои планы. Натаха моя жутко меня взревновала, и в нестерпимой обиде я уходил в бывший мой дом на Таврической, писал горький “Романс” о душе, которая “лежит и лечится бедой”, а Наталья в слезах уводила меня обратно на Тверскую, куда Иосиф позднее привез стихи “Дорогому ДБ”, первые же строчки которых резанули приговором: “Вы поете вдвоем о своем неудачном союзе”… Ведь мы уже помирились, и союз мне казался навсегда восстановленным! И потом — она ему, оказывается, “пела”, жалуясь на меня!
Читать дальше