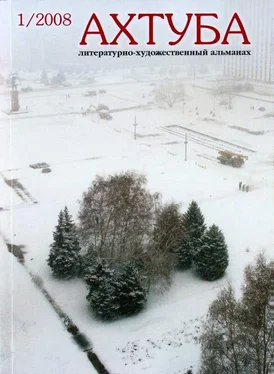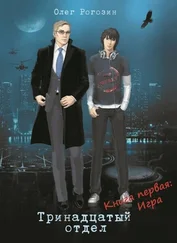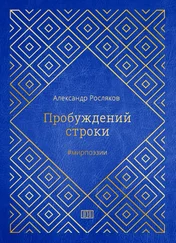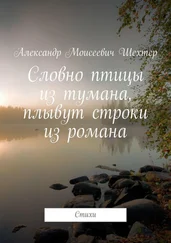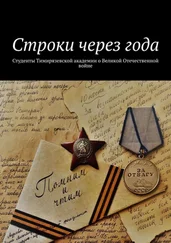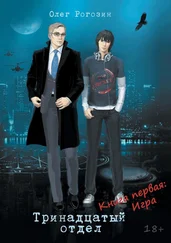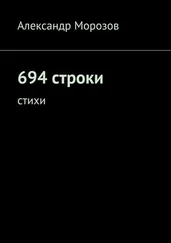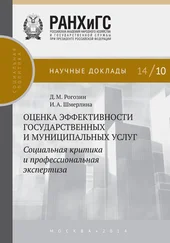Стоном строку эту выстони!
Помню девичий взгляд:
Раненые на пристани,
А пристани горят.
«Под Маяковского» первая строка написана сознательно. Яшин комбинировал в своих стихах разные поэтические приемы, а Маяковского любил так же, как и Есенина.
Девушка стала выносить раненых на берег. А потом с чемоданом вернулась в город и записалась медсестрой в заводской истребительный батальон.
Никогда.
Не забыть
Даже у гибели на краю,
Как девушка эта шла,
Как вскинула,
Подняла
Голову свою.
Так люди идут, чтоб победить
Или умереть в бою.
Никакой конкретной девушки не было. У Яшина перед глазами стояла Аня, открыто уходившая в город, когда он не смог отправить ее на левый берег. Поэтому и строчки получились такими пронзительными.
Дальше — о подвигах красноармейцев и моряков.
Последняя глава называлась «На запад».
Наши силы вновь пошли вперед,
И клинки победно засверкали.
Снова голос ленинский зовет:
Пусть не ослабеет ваш поход
В наступленье действуйте, как Сталин.
Слышим голос Ленина.
Он жив.
В горестях и радостях он с нами.
Близятся родные рубежи.
Наступаем.
Ленин — наше знамя…
Вряд ли можно представить завершение поэмы как-то иначе. Поэма должна нести агитационный и идейный заряд, это не обсуждалось. В стихах военной поры Сталин упоминается Яшиным десятки раз, Сталин в сознании народа был живым символом будущей победы. «Пусть все командиры — дерьмо, а Сталина не трожь. И Жукова».
В дневниках Яшин откровенней, чем в стихах, не так однобок. Там такое встречается, что будь дневник обнародован или просто прочтен вслух, Яшина тут же поставили бы к стенке.
Но и в дневниках есть такие записи: «Стукнув немцев под Москвой, добившись перелома, Сталин поможет и нам, выручит ленинградцев, даст нам хлеба». Яшин не входил в ту узкую и поневоле молчаливую прослойку интеллигенции — в основном старшего поколения, — которая видела Сталина другим. И на Яшина не мог не влиять Маяковский.
«Ленин и теперь живее всех живых, наше знамя, сила и оружье» впечатывалось в сознание, как в расплавленный сургуч. Однако интонационной перелицовкой Маяковского Яшин все же не стал заканчивать поэму. Она заканчивается так:
Отомстим за смерть детей и жен,
Отомстим за город, что сожжен,
Отомстим за каждый домик русский.
Мотив мести использовался фронтовыми поэтами с самого начала войны и Яшин не мог не знать об этом, но все-таки это было ближе бойцу, чем Сталин в Кремле и Ленин — живой, но с восковым лицом в Мавзолее.
* * *
Яшин испытывал двойственное чувство от того, что ему не удалось встретиться с Симоновым. Конечно, ему хотелось показать поэму. Обсудить ее с человеком, знающим толк в литературе. В «Правде» и «Красной Звезде» у Симонова были свои люди и он мог бы пристроить «Город гнева». Это для Яшина значило бы многое. Могла быть награда. Или повышение в звании. Вон, Симонов, уже старший батальонный комиссар. А Яшин лишь старший политрук.
Но Яшин чувствовал, что поэма еще сыровата. Симонову это сразу бросилось бы в глаза. И прямой отрицательный отзыв, и уклончивые советы подтянуть то-то и то-то больно ударили бы по нервам честолюбивого Яшина.
В Ульяновске, в местной библиотеке, Яшин прочел стихотворение Симонова сорок первого года «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины». Это была суровая и щемящая правда дней отступления.
Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз,
Деревни, деревни, деревни с погостами, —
Как будто на них вся Россия сошлась.
Как будто за каждою русской околицей
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.
Ты знаешь, наверное, все-таки родина —
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены
С простыми крестами их русских могил.
Одной только правды поэту мало, здесь вместе с правдой жила боль. «И как он, — думал Яшин о Симонове, — насквозь городской, смог почувствовать этих деревенских баб, что плакали и жалели отступающих наших солдат, и эти деревенские кладбища, действительно провожающие путников крестами».
А летом сорок второго года, когда у всех начала пропадать иллюзия скорой победы, фронт опять покатился на восток, теперь не к Москве, а к Волге, у Симонова появилась совсем другая интонация:
…глухими ночами,
Когда мы отходим назад,
Восставши из праха, за нами
Покойники наши следят.
Солдаты далеких походов,
Умершие грудью вперед,
Со срамом и яростью слышат
Полночные скрипы подвод.
И вынести срама не в силах,
Мне чудится в страшной ночи —
Встают мертвецы всей России,
Поют мертвецам трубачи.
Читать дальше