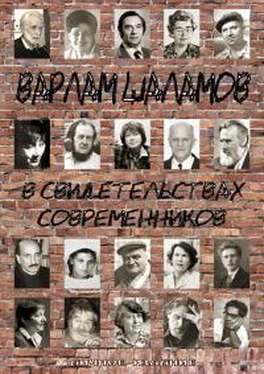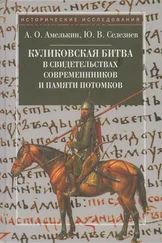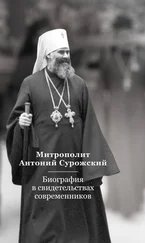На эстраде Леонид Утёсов получил всесоюзную аудиторию блатной песенкой «С одесского кичмана»...
С одесского кичмана
Бежали два уркана...
Утесову откликался многоголосый рёв подражателей, последователей, соревнователей, отражателей, продолжателей, эпигонов:
...Ты зашухерила
Всю нашу малину...
и так далее.
Безудержная поэтизация уголовщины выдавала себя за «свежую струю» в литературе и соблазнила много опытных литературных перьев. Несмотря на чрезвычайно слабое понимание существа дела, обнаруженное всеми упомянутыми, а также всеми неупомянутыми авторами произведений на подобную тему, эти произведения имели успех у читателя, а следовательно, приносили значительный вред.
Дальше пошло ещё хуже. Наступила длительная полоса увлечения пресловутой «перековкой», той самой перековкой, над которой блатные смеялись и не устают смеяться по сей день. Открывались Болшевские и Люберецкие коммуны. Сто двадцать писателей написали «коллективную» книгу о Беломорско-Балтийском канале. Книга эта издана в макете, чрезвычайно похожем на иллюстрированное Евангелие. Одна из притч «История моей жизни» написана М.Зощенко и всегда включалась в сборники его сочинений.
Литературным венцом этого периода явились погодинские «Аристократы», где драматург в тысячный раз повторил старую ошибку, не дав себе труда сколько-нибудь серьёзно подумать над теми живыми людьми, которые сами в жизни разыграли несложный спектакль перед глазами наивного писателя.
Много выпущено книг, кинофильмов, поставлено пьес на темы уголовного мира. Увы!
Преступный мир с гутенберговских времён и по сей день остается книгой за семью печатями для литераторов и читателей. Бравшиеся за эту тему писатели разрешали эту серьёзнейшую тему легкомысленно, увлекаясь и обманываясь фосфорическим блеском уголовщины, наряжая её в романтическую маску и тем самым укрепляя у читателя вовсе ложное представление об этом коварном, отвратительном мире, не имеющем в себе ничего человеческого. Возня с различными «перековками» создала передышку для многих тысяч воров-профессионалов, спасла блатарей».
В своём письме Шаламов добавляет:
«Есть ещё и «с» – дополнение, возможно, полезное для Вашей работы.
«Одесская школа» – это блеф литературный, очень дорого обошедшийся советскому читателю.
«Дополнение» возникло потому, что моя работа написана крайне сжато, конспективно. Сказать надо было так много, что как ни важна эта тема – а она очень важна, бесконечно важна – не было и нет времени на расширение аргументации, примеры и прочее.
Но и сейчас – через пятнадцать лет после записи «Очерков преступного мира» – всё остаётся по-прежнему, ни капли правды не проникло по блатному делу ни в литературу, ни на сцену.
Казалось бы, – что страшного в развенчании блатного мира? Недавно появились «Записки серого волка» – очередная «туфта» по этому важному вопросу. Не говоря уж о крайней претенциозности стиля, отвечает на этот вопрос не тот, кому надо отвечать. «Серый волк» – бандит, а не вор («волжский грузчик» – такая кличка для него в блатном мире припасена). «Серый волк» боится воров и врёт, что их нет. Берётся судить по вопросам, по которым не имеет права судить, судит вместе с «Москвой», вместе с «Литгазетой». Это – очередной опус шейнинского толка, наш век – век документа. Появляется автобиография бандита. До воровского царства ещё очень далеко. Но это всё попутно, а «с» – дополнение может выглядеть так:
О Бабеле можно сказать и больше. Кроме «Одесских рассказов» с Беней Криком, имевших огромный читательский успех, есть у Бабеля пьеса «Закат», шедшая в Художественном театре (2-м?), выросшая тоже на шуме блатной романтики «Одесских рассказов». «Закат» пользовался большим успехом, трактовался печатно как новый «Король Лир».
Совсем недавно кинорежиссёр Швейцер окунулся в блатную шекспириану, поставив «Золотого телёнка» – программную вещь «одесской школы» – по схеме «Гамлета», с монологами о суетности жизни, с шутом Паниковским и могилой шута. Если биндюжник Мендель Крик – это король Лир, то Остап Бендер – Юрского – Гамлет, не меньше.
Эллий-Карл Сельвинский, как он себя именовал в те годы для сборника «Мена всех» – каламбур, задуманный в поддержку ямбам Ильфа и Петрова в Вороньей слободке – дал свой фотопортрет в жабо из лебяжьих перьев. Близ портрета было стихотворение «Вор», вошедшее потом во все хрестоматии двадцатых годов и во все сборники стихотворений Эллия-Карла Сельвинского:
Читать дальше