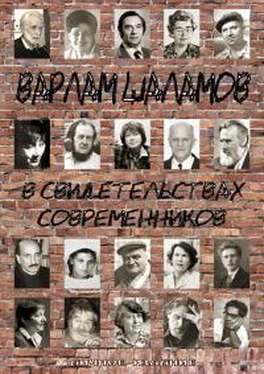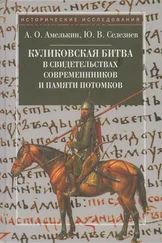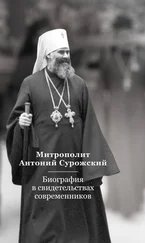От всей души благодарю Вас за рецензию Адамовича.
Ваш В.Шаламов».
Наконец появилась – вопреки всем тормозам – и моя рецензия в «Литгазете». Она была не в пример скромнее и скованнее отзыва Георгия Адамовича. Приходилось говорить полунамёками, осторожно обходя «лагерный опыт» автора там, где парижский поэт, напротив, обращал на него внимание, останавливался и «заострял»:
«Сборник стихов Шаламова, – духовно своеобразных и по своему значительных, не похожих на большинство теперешних стихов, в особенности стихов советских, – стоило и следовало бы разобрать с чисто литературной точки зрения, не касаясь биографии автора. Стихи вполне заслужили бы такого разбора, и, вероятно, для самого Шаламова подобное отношение к его творчеству было бы единственно приемлемо. Но досадно это автору или безразлично, нам здесь трудно отделаться от «колымского» подхода к его поэзии. Невольно задаёшь себе вопрос: может быть, хотя бы в главнейшем, сухость и суровость этих стихов есть неизбежное последствие лагерного одиночества, одиноких, ночных раздумий о той «дороге и судьбе», которая порой выпадает на долю человека? Может быть, именно в результате этих раздумий бесследно развеялись в сознании Шаламова иллюзии, столь часто оказывающиеся сущностью и стержнем лирики, может быть, при иной участи Шаламов был бы и поэтом иным? Но догадки остаются догадками, и достоверного ответа на них у нас нет».
Мне же поневоле приходилось переводить всё в иную, «оптимистическую» плоскость:
«Поэта Варлама Шаламова читатель знает плохо. Прозаика – и того хуже. Между тем благодаря нравственной наполненности, серьёзности содержания, выверенности слова и насыщенности жизненным трудным опытом – благодаря всему этому произведения Шаламова обладают в избытке той «учительной» силой, которая драгоценна всегда, а в наши дни, когда так много говорится о духовном формировании человека, в особенности» и т.д.
2 февраля 1968 года я получил от Шаламова развёрнутое послание, где он выразил ясно и твёрдо своё кредо – кредо гражданина и художника.
«Дорогой Олег Николаевич, – писал он. – Благодарю Вас за рецензию в «Литературной газете». Формула Ваша отличается от концепции Адамовича: «автор готов махнуть рукой на всё былое». Я вижу в моём прошлом и свою силу, и свою судьбу и ничего забывать не собираюсь. Поэт не может махнуть рукой – стихи тогда бы не писались. Все это – не в укор, не в упрёк Адамовичу, чья рецензия умна, значительна, сердечна. И – раскованна. Сборник стихов – не роман, который можно пролистать за ночь. В «Дороге и судьбе» есть секреты, есть строки, которые открываются не сразу.
Непоправимый ущерб в том, что здесь собраны стихи-калеки, стихи-инвалиды (как и в «Огниве» и в «Шелесте листьев») «Аввакум», «Песня», «Атомная поэма» («Хрустели кости у кустов»), «Стихи в честь сосны» – это куски, обломки моих маленьких поэм. В «Песне», например, пропущена целая глава, важнейшая: «Я много лет дробил каменья Не гневным ямбом, а кайлом», в самом конце сняты три строфы. В других поэмах ущерб ещё больше, а «Гомер», «Седьмая поэма» и к порогу сборника не подошли.
Нарушением единого потока сборника было включение стихов, написанных в трудных условиях на Колыме в 1949 и 1950 году и выбранных из множества стихов тех лет: «Чучело», «Притча о вписанном круге» и некоторые ещё. Но лучше было включить при всем их многословии и шероховатости, как след судьбы, как след настроений тех лет, как доказательство себе самому, как трудно было на Колыме складывать буквы в слова. В своё время Пастернак был против «Чучела» и понял всё только при личной встрече.
В сборнике есть два «прозаических» стихотворения – «Прямой наводкой» и «Гарибальди». Эти стихи заменили снятые стихи о Цветаевой.
Я написал более тысячи стихотворений. А сколько напечатал? 200? 300? – отнюдь не лучших. Я пишу всю жизнь. Дважды уничтожали мои архивы. Утрачено несколько сот стихотворений, тексты давно мной забыты. Некоторые присылают мне только теперь. Утрачено и несколько десятков рассказов, а напечатано в тридцатые годы лишь четыре. Сохранилась лишь часть (большая) колымских стихов – в своё время вывезенных на самолёте и вручённых мне в 1953 году. Эти «Колымские тетради» (стихи 1937 – 1956 годов), числом шесть, составляют более шестисот стихотворений. Часть из них вошла в сборники, в публикации «Юности».
Таким образом, в «Дороге и судьбе» – лучшие стихи – это стихи двадцати- и пятнадцатилетней давности. Я приехал в 1956 году после реабилитации с мешком стихов и прозы за спиной. Около ста стихотворений было взято журналами – каждый брал помаленьку. И я рассчитывал, что до славы остался месяц. Но начался венгерский мятеж, и сразу стало /ясно/, что ничего моего опубликовано не будет. Так продолжается и по сей день. Мне удаётся печатать по несколько стихотворений в год – самых для меня не интересных, участвовать в «Днях поэзии», выпустить за 10 лет три сборника по два-три листа – с усечением и купюрами.
Читать дальше