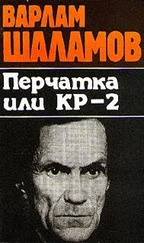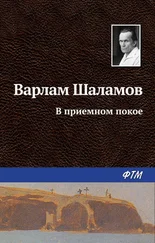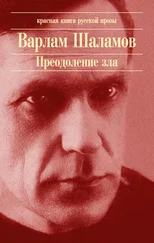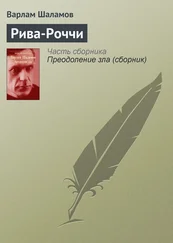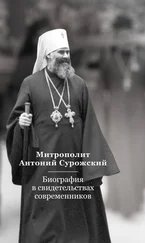Я смею надеяться, что «Колымские тетради» – это страница русской поэзии, которую никто другой не напишет, кроме меня.
Теперь о поэзии мысли. Мне представляется крайне важным эмоциональная сторона дела, чувство, оттенок чувства, которые исследуются стихом и только стихом в пограничной области между чувством и мыслью, составляющим суть, на мой взгляд, творческого процесса. Ведь творческий процесс больше отбрасывание, чем поиск. Мне кажется также крайне важной звуковая организация стиха, ритмическая его конструкция. И о том, и о другом я не забываю никогда. Только это не аллитерации типа «мир – мор», которые и Цветаеву-то портили, уводили её от главного – преодоления препятствий, воздвигнутых поэтессой перед самой собой, иногда выглядело героически, истерически-героически. Эпигонов цветаевских эти «поиски» задушили. У эпигонов Цветаевой это было бреньчаньем (в отличие от бряцания Цветаевой), бреньчаньем оружием весьма примитивным, простейшим оружием из огромнейшего поэтического арсенала.
Для меня эта сторона дела становится предметом постоянной заботы. Чтоб не искать примеров далеко – вот стихотворение «Лицо», которое нравится Вам и которое вы считаете «программным» для меня. Ведь в этом стихотворении всё насквозь прорифмовано, ассоциировано. Без внимания к этой стороне дела у меня нет стихов. Мне кажется даже, что любой поэт в любом стихотворении всегда ставит малую или большую, но чисто «техническую» задачу – и разрешает её. Эти задачи могут быть разнообразные: новая тема, рифма, мысль, размер, ритм... Всегда хочется вставить в строку какое-нибудь многосложное слово, прозаическое до демонстративности.
Но я горжусь и тем, что звуковая организация стиха, звуковая опора строфы в моих стихах существует как бы позади мысли, внутри мысли. При проверке строка оказывается более совершенной, чем казалось на первый взгляд, и это должно дать читателю дополнительную радость, ту самую радость точного слова, которая важней всего для человека, работающего над стихом, над словом. Стихи – это всеобщий язык – потому нет дела, факта, события, идеи, которую нельзя было бы применить в стихах. Стихами можно сказать (а главное – найти!) многое, чего не найдешь прозой. Поэт, который заранее знает, что он хочет выразить в своем стихотворении, – это не поэт, а баснописец. На свете есть тысяча правд, но в искусстве есть только одна правда – правда таланта. Вот и всё. Спасибо Вам большое.
Остаётся ещё сказать, что у меня нет равнодушной пушкинской природы (она была ещё у Пастернака) и что пейзажная лирика – лучший род поэзии гражданской. Называя моих учителей, Вы, ей-богу, ошибаетесь, так же, как и Адамович. Вся русская лирика начала века – вместе – Анненский и Блок, Мандельштам и Цветаева, Пастернак, а также десяток имён ниже этих, которые искали, нашли и могли бы составить славу поэзии любой страны. Вершина же русской поэзии – Тютчев. Поэт для поэтов – но жизнь. И пока нет своего языка – нет поэта. Вопрос новизны, вопрос творческой интонации – главнейший в поэзии, как и в искусстве вообще. Поэтическая интонация – это не стиль, но и не то объяснение, которое даётся в литературоведческих словарях, авторы которых привыкли иметь дело с прозой. Поэтическая интонация гораздо шире, глубже, особенней, тоньше, сильнее наконец – от любимых рифм до любимых мыслей.
Сердечный Вам привет.
Ваш В.Шаламов.
Ещё решил дописать для Вас страничку о прозаических моих опытах, о судьбе русской прозы.
История русской прозы XIX века мне представляется постепенной утратой пушкинского начала, потерей тех высот литературных, на которых стоял Пушкин. Пушкинская формула была заменена постепенно описательным нравоучительным романом, смерть которого мы наблюдаем в наши дни.
В этом разрушении пушкинского начала сыграли большую роль два человека – Белинский и Лев Толстой. Белинский, который всем твердил, что стихи можно объяснить прозой. Похвалы Белинского были троянским конём, завезённым в пушкинский мир, в пушкинский лагерь. Лев Толстой был вершиной практики описательного, нравоучительного романа, чуждого пушкинской мысли о жизни, пушкинской фразе. Лев Толстой клялся в верности Пушкину («Гости съезжались на дачу»), но это было суесловием. Ни в своей практике, ни в своем словаре, ни в своих литературных идеях ничего не было более чуждого Пушкину, чем Лев Толстой. Толстой немало сделал, чтобы перевести спор в искусстве в живую жизнь, и не случайно все видные террористы начала века проходили первоначальную учёбу у автора моралистических рассказов.
Читать дальше