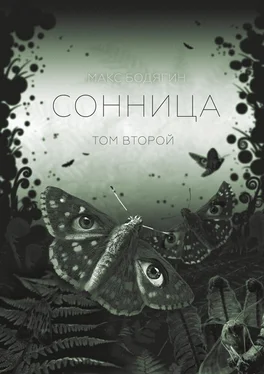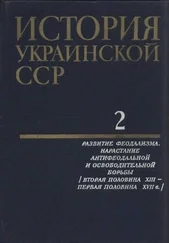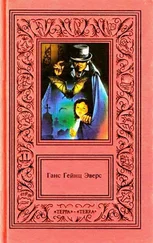Я малчал. Ва всей Всиленой патух свед. У миня болше не было друззей. Аднаво я предал, другой бросел миня, устаф срожаца со сваими сраными деманами, сука, каг жэ я нинавидил этих йобаных деманав в тод трогический маменд… «Вотка езть?», спросил йа и зоплакал. Ищо сильнейе. Следоватиль удевился и нолил сибе и мне.
Йа шол дамой к жине Лене, пьянэй и убитэй, каг буто в миня выстрелил танкъ. В упор. Я пазвонил дамой из афтомата науглу и скозал пра какие-та дила, а сам пашол к Ивонову. Аткрыл дверь и ахуел: фсьо было пиревёрнуто, плостинки пиребиты, фся квортира разыбошена вхлам, из бабин вывернута пльонка, кудряме вифшаяся па полу. Фсе абои с писменаме воръ срезал састен нажом и я пачуствовал, бутто это с миня срезале кожжу.
Я пазвонил Крому, патавошта Лена скозала мне, што он вирнулся, пака я есдил в ибучей Кетай. Нипомню, што я гаворил. Кром пришол и таг мы свиделись в паследней рас.
Мы стайали и малчали, глядя на паруганые сакровища нашево децтва и кашдый думол про себя: вот и песдец. Это и был паследний день децтва. День самай ацкой смерти всех нашех децкех мечд. Слиозы тикли так силно, шта варотник прамок насквось. Кром паднял разъйобаную плостинку Мэшин Хедъ и толька кочал голавой в тагт моим рыданеям, нифсилах скозадь нислова. Да и хуле туд скажеш? Иво слиозы кипеле в глозах, чудом не пиреливаясь черес край.
Тагда йа дастал нинужнэй типерь омулед и скозал: Кром – ты баец риальне. Настаящей баец, а я – проста роспесдяй. Я прасру этат омулет, а он мок бы спости Иванова. Сахрани иво. Павирнулся и ушол, аставив Крома сидеть пасреди расгрома, каг вдаву на руинах диревни сажжоной фошыстами.
Дажэ сичас, фспаминая те горькиэ менуты, я нимагу унядь дрош и слиозы так и перчад мои светле глоза алкоша и разъыбая.
Дети, я никагда ни расказывал этай истореи никаму насвете. Многа лед я баялся, што какойнебуть мрачнэй калдун или икстрасенс явицо ко мне ночиу и спросид с миня иле этат амулед, иле тетратки и пабки Ивонова. Патом я понил, што устал баяцо.
Типерь можите бросать в миня калом, если в вашэх дишовых жызнях случалозь ходь штота падобное. Но помните: нет ничево придуманаво, што нимагло бы случицо. Канец.
День десятый.
Пятница, 26 марта.
04:36
Текст Макоеда, неправильный, словно нарочно измаранный подростковыми слезами, изжёванный, нервный, оглушил меня. Я проглотил его на одном дыхании. Потом перечёл ещё несколько раз, снова и снова погружаясь в прошлое. Я сижу в отцовской комнате, окружённый запахами моего детства, обняв папину подушку, вдыхая знакомый с младенчества табачный след, смешанный с крепчайшим кофе и вижу, как призраки минувшего один за другим встают передо мной.
Я так долго прятал их. Мысленно задёргивал плотными портьерами, не пропускавшими свет, который мог бы сделать их очертания слишком реальными. Закрывал бронированные многослойные двери, запирал на сорок тяжёлых замков, опускал жалюзи, выключал свет и стирал пыльной тряпкой всё, что проступало на поверхности сознания.
Господи. Как тяжело. Как же мне тяжело. Я говорю с диваном, с подушками, с тёмным шкафом, где до сих пор висят Его рубашки. Как же я хочу, чтобы Ты снова взял меня за руку и строго сказал, всё пройдёт, малыш, пройдёт и это. Почему? Почему Ты умер так рано, папа? Почему именно тогда, когда ты так мне нужен? Почему ты больше не споёшь мне колыбельную своим прокуренным голосом? What a wonderful world, ты пел её с интонациями Армстронга, а я просил тебя не портить голос, а ты смеялся. И я смеялся просто от того, что ты был рядом. А сейчас… Я сорокалетний дурак без семьи, без друзей, без будущего, повисший между демонами прошлого и пугающими духами будущего. Я сижу, словно со снятой кожей и чувствую сводящее с ума дыхание весны, слышу каждый её безумный шепоток, толкающий меня в чёрную пасть, где тускло зеленеют нечистые клыки.
Я боюсь спать. Я боюсь, что всё пережитое приснится мне заново. Я боюсь, что не проснусь в своём уме. Мне нужно за что-то держаться. Ухватиться за что-нибудь прочное. Но ничего нет. Ничего не осталось. Ничего.
День десятый.
Пятница, 26 марта.
17:07
Утром меня разбудил настойчивый писк смартфона. Я еле продрал глаза. Оказалось, что я лежу поперёк отцовского дивана, прижав к груди его подушку. Я спал всего часа два-три, не больше. Ноги, которые так и остались стоять на полу, вдетыми в тапки, чудовищно затекли и казались совершенно чужими. Часы показывали половину двенадцатого.
Читать дальше