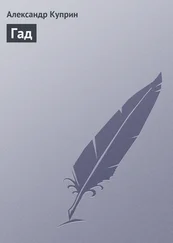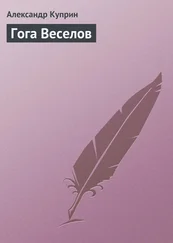— Вла-ад! Вла-ад! Погоди, — коренная москвичка, Аня имела привычку растягивать гласные.
— Что тебе? — вздохнул Влад и остановился.
— Давай вот сюда отойдем — поговорить надо. Ну пожалуйста…
— Спрашивай!
— Кто он, Влад? Кто он — этот родственник твой? Курсант?
— Что это? Как это? — опешил Влад. — Почему курсант-то? Курсант чего?
— Ну сам посуди — молодой парнище, не курит и не пьет, симпатичный такой… и работает грузчиком! Ну ведь не может так быть! Он что тут — стажируется? Ты ведь знаешь — я не просто так спрашиваю, ведь знаешь! Он что — комитетский?
— Нет.
— Ментовский?
— Нет.
— А какой?
— Грачевский он, насколько я могу судить. Извини, меня ждут.
И Влад, оставив сияющую Аню, побрел к своим «Жигулям».
«Вот папы-дедушки страну построили, — размышлял он, прогревая двигатель, — раз не курит и не пьет, значит, комитетский. Это не Родина, а катастрофа!» Странно, но этот разговор ненадолго вернул ему душевное равновесие. Влад чувствовал, что его снова накрывает тяжелая депрессия, и не находил выхода. Приезд племянника несколько расшевелил его, но вот, похоже, и Димка скоро исчезнет из его жизни.
А роман продолжался, продолжалась старая как мир история…
Анна обстоятельно пыталась привить Диме любовь к Москве, которую сама обожала, часами просиживали они в ее любимой «Шоколаднице» на улице Горького, посмотрели все фильмы фестиваля французского кино, и вот однажды, после ужина в «Метелице», они оказались на Соколе в пустой квартире Аниной тетки. Началась эра секса, и в их уже цветное кино добавили яркости и звука. Дело это для нашего героя было новое, захватывающее, и он отдался ему целиком. Красоты столицы его и раньше не сильно волновали, а теперь ему и вовсе казалось, что нет в Москве более прекрасного, архитектурно выверенного и безупречного в дизайне здания, чем невзрачная хрущевка на улице Алабяна, что недалеко от метро «Сокол». В пятидневки, когда Анна не работала, он даже не заезжал домой, а сразу мчался к ВДНХ, где та жила со строгой мамой — директором школы. Из телефона-автомата внизу, дергая диск, он памятью пальцев стремительно набирал номер, цифр которого не помнил, а затем терпеливо ждал у подъезда. За эту его особенность — помнить руками, Анна дразнила его мутантом, в дополнение к ласковому «гад».
— Да ну чего гулять-то по такой погоде, Аньк? — канючил сластолюбец. — Поедем на Сокол — поваляемся… А?
— Откуда у советского комсомольца такое потребительское отношение к женщине? Я буду жаловаться в райком! — возмущалась Грачева, но день они неизменно заканчивали в тетиной постели.
Да и на работе, когда совпадали их смены, Анна, бывало, разыгрывала мини-спектакль для официанток и посудницы — взяв в руки какие-нибудь старые накладные, начинала считать ящики, делала озабоченное лицо и, оставив вместо себя буфетчицу, с грозным видом шагала на склад — якобы разбираться с грузчиком. Там они долго целовались, причем Димка тянул подругу за плечи вниз.
— Вот же гад, — шептала Анька, и через секунду «гад» взлетал сквозь крышу в синее небо, потом выше — в белые облака, и еще выше, где огромное апельсиновое солнце — вот оно толчками взрывается, распадается, становится красным, потом бурым и серым, как пепел…
Уже затихли звуки Анькиных каблучков, а счастливец все сидит в своем импровизированном кресле, которое он соорудил из ящиков стеклотары и двух старых ватников. На лице его блуждает бессмысленная улыбка — она будет приклеена там примерно час, и ничто ее не смоет. Какой Париж? Какой Лондон с Нью-Йорком? Не нужно никуда бежать, ведь центр мироздания находится здесь — в этой подсобке! Отсюда и до Солнца недалеко — да вот хоть грузчика спросите.
Дима часами глазел на пассажиров, вглядывался в их лица и пытался представить себя с билетом и паспортом в кармане. Что они чувствуют — эти люди, прошедшие уже таможенный и пограничный контроль? Каково оно — ощущение, что ты скоро покинешь это гигантское замкнутое пространство — СССР? Очень скоро он научился отделять угрюмых, знающих свои права, никуда не спешащих дипломатов от нервических командировочных, спортсменов от артистов, группы совтуристов от еврейских эмигрантов. Семейные пары и вообще группы родственников являлись точным индикатором отъезжающих навсегда по пятой графе — никогда советский турист не мог выехать за границу в компании супруги, это было совершенно невозможно — один из них должен был остаться в залоге. И уж совсем безошибочно, на раз, Димка определял самого замызганного иностранца от своего, советского. Глядя сверху на жидкий ручеек очереди на посадку, он испытывал необъяснимое волнение и представлял себя вон тем полным армянином, что, отдав билет и небрежно показав в последний раз паспорт, уходит вниз к автобусу, или вот этим полуобморочным туристом в толстых очках, что до сих пор не может поверить оказанной ему родным профсоюзом чести — выделенной путевке в братскую Болгарию. Димке казалось, что эти люди, пересекшие уже границу, сразу за КПП должны стать легкими, как бабочки, — такими же беззаботными и счастливыми. Однако автобус увозил на летное поле никаких не бабочек, а обычных тяжелых, потных и взвинченных советских людей. Они нервно оглядывались по сторонам и поправляли в сумках электрические кипятильники, фотоаппараты ФЭД и твердые палки сырокопченой колбасы или бастурмы. Отдельно стояли иностранцы — их легко можно было распознать по отсутствию в руках полиэтиленовых пакетов — непременного атрибута и опознавательного знака советского туриста, где бы тот ни находился.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу