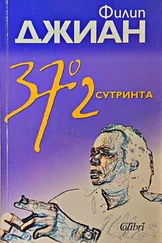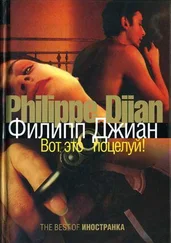Я забираю с собой несколько сценариев и навещаю мать – в холле покупаю журналы и два готовых салата. В лифте до меня доходит, что мать не может больше ни читать, ни есть – ни говорить, ни ходить, ни хлопать ресницами, что у нее так хорошо получалось, – и закрываю лицо рукой, подавляя рыдание.
На всякий случай я немного почитала ей – Старый Континент катится по наклонной плоскости и продолжает испускать дух в лапах злых банкиров. Признаться, мне немного страшно, что она вдруг проснется и пристанет ко мне с вопросом, исполнила ли я свой якобы моральный долг перед ее дорогим мужем.
А свой перед ним она исполнила, ведя разгульную жизнь, попирая все нравственные правила? На какие только чудовищные ухищрения она ни шла, чтобы заставить меня навестить отца, каких подлых ударов ниже пояса ни наносила, чтобы навязать мне свою волю, – кровоизлияние в мозг отличается особенно омерзительным коварством и наплевательством на ближнего.
Еще нет шести, но уже смеркается. Небо пересекает самолет, и белый шлейф изгибается в сторону заката, осененного молочно-оранжевым светом, а его конец распадается, потом рассеивается и совсем исчезает в небесной лазури.
– Не надо на меня сердиться, – говорю я. – Ты же знаешь. Ты не можешь делать вид, будто не знала.
Салат отвратительный, в нем слишком много пересоленных черных маслин. Сегодня кто-то приходил и причесал ее, и я чувствую себя виноватой.
Я не могу смотреть на нее слишком долго. Иначе расплачусь. Но если я лишь скольжу по ней взглядом, не задерживаюсь на ее лице с похожей на картон кожей, поглядываю коротко, не всматриваясь, мне удается вынести это испытание – сидеть с матерью в коме, держать ее холодную руку, ждать, толком не зная чего, глядя в окно. Вечером персонал вешает шары и гирлянды из золотой бумаги в коридорах. «Не может быть и речи, чтобы я пошла туда, мама. Я не знаю, слышишь ли ты меня, но не может быть и речи ни на секунду, чтобы я это сделала, мама. Он больше ничего для меня не значит. Я стыжусь этой части моей крови, что привязывает меня к нему, не заставляй меня повторять это пятьсот раз. Я не упрекаю тебя за то, что ты его навещала, я не возражала, я уважала твое решение, так что и ты, пожалуйста, уважай мое, мама, не заставляй меня делать то, что мне невыносимо. Ты его жена, я его дочь. Мы видим вещи по-разному. Ты сама его выбрала. Но я тебя не упрекаю, ты не могла догадаться. И все же ты сама его выбрала. А я нет. Ты можешь порвать связывающие вас узы. Я нет. Его кровь течет в моих жилах. Ты понимаешь, в чем проблема? Я не уверена. Я не думаю, что ты хоть на минутку поставишь себя на мое место, и то, что ты могла потребовать от меня такого, доказывает, что ты совсем не ставишь себя на мое место».
Я умолкаю, потому что входит медбрат проверить, все ли в порядке.
Ральф является, когда я ухожу. Воспользовавшись этой встречей, он снова поднимает вопрос его присутствия в квартире Ирен. «Только не подожгите квартиру, это все, о чем я вас прошу, – говорю я ему. – В остальном – подождем, время покажет». Ральф – загадка. Что ему, собственно, надо? Если у него нет фиксации на старухах, я не представляю, чего он ждет от связи с моей матерью, – и мне не кажется, что Ирен, хоть я и не могу отрицать за ней известного опыта по этой части, была незаурядной партнершей в постели. Ришар советует мне выкинуть это из головы. «Ты прав, – говорю я. – Выкину. Значит, не приглашаем его». Так лучше. Я не поднимаю вопрос присутствия Элен на семейном ужине, но не думать об этом не могу. Я предоставляю Ришару делать то, что он считает нужным. У него есть душа, есть совесть, он свободен выбирать, вот и пусть выбирает. Мы пьем по стаканчику на залитой солнцем террасе, чудесным образом защищенной от ветра, и выпавший ночью снег блестит кристалликами на тротуарах. Сегодня не очень холодно.
– Но ничто не мешает пригласить Патрика и его жену, – говорю я, – что скажешь? Это будет прилив свежей крови. Они славные.
– Он не славный . Он работает в банке.
– Да, я знаю. Ну ладно, скажем, я выкладываю джокера. Попробуем оживить этот вечер, насколько возможно. Пожалуйста. Развеемся.
Он берет мои руки и растирает их в своих, но он знает, что я никогда не прощу ему пощечину, и эти жесты внимания ко мне теперь сопровождаются вздохами – гладить мне спину, прижимать к своему плечу, массировать лодыжки и т. д. Он говорил еще не так давно: «Три года, Мишель, скоро уже три года, больше тысячи дней, разве мы не можем…» Я перебила его: «Конечно нет, Ришар. Размечтался. Не все можно простить, к сожалению. Даже если бы я хотела, все равно бы не смогла. Ничего с этим не поделаешь, Ришар, смирись».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу