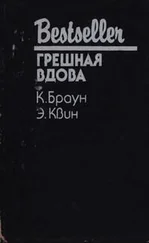— Останься,— прошептал Гевиньи.
— Старина, я бы очень хотел... Но если бы ты знал, сколько у меня накопилось работы... В столе лежит не меньше десяти дел!
— Останься! — умолял Гевиньи. — Я не хочу быть один, когда ее принесут.
— Послушай, Поль... Это неразумно.
Неподвижность Гевиньи была пугающей.
— Если останешься...— сказал он. — Ты им объяснишь... Скажешь, что мы оба старались уберечь ее.
— Да, конечно... Только никто ее не принесет, можешь мне поверить.
Голос Флавье сорвался. Он быстро поднес платок ко рту, кашлянул, чтобы выиграть время.
— Ну, Поль... Все будет хорошо... Позвони мне.
Взявшись за дверную ручку, он остановился. Казалось,
Гевиньи окаменел, опустив подбородок на грудь. Флавье вышел и осторожно закрыл дверь. На цыпочках он прошел через переднюю. Больной от отвращения, вместе с тем он чувствовал облегчение, потому что самое тяжелое закончилось. Не было больше дела Гевиньи. A-что касается страданий Гевиньи, так разве тот страдал больше него? Он должен был признать, хлопая дверцей автомобиля, что рассматривал себя как настоящего мужа, а Гевиньи как случайного человека. Он не станет рассказывать своим бывшим коллегам в полиции, что позволил женщине покончить с собой, потому что ему не хватило смелости... Второй раз не признаются в таком стыде... Нет! Молчание. Покой. Не приходил ли уже клиент из Орлеана, который собирался покинуть Париж?.. Флавье не понял, как ему удалось довести «симку» до гаража. Теперь он шел наугад по улице, на которую спускался вечер. Вечер провинции, очень синий, очень печальный, вечер войны. На одном из перекрестков собралась толпа вокруг машины, у которой к крыше были привязаны два матраца. Люди становились непоследовательными. Город медленно погружался в ночь. Площади его были почти совершенно пусты. Все создавало иллюзию смерти. Флавье вошел в небольшой ресторан на улице Сент-Орсе, выбрал столик в глубине зала и сел.
— Меню обеда или закуски? — спросил гарсон.
— Обеденное.
Ему нужно было поесть. Нужно было начать жить, как прежде. Флавье опустил руку в карман, чтобы потрогать зажигалку. Образ Мадлен возник перед ним, где-то между его глазами и белой скатертью.
«Она не любила меня,— подумал он,— она никого не любила».
Он машинально проглотил еду, ему было все безразлично. Он станет жить, как бедняк в трауре, придумывая всякие осложнения, чтобы наказать себя. Ему бы следовало купить кнут и стегаться им каждый вечер: у него были основания себя ненавидеть. И ненавидеть придется очень долго, чтобы заслужить прощение.
— Они прорвались около Льежа,— сказал гарсон,— похоже, зашевелились бельгийцы, как в четырнадцатом.
— Все это слухи,— ответил Флавье.
Льеж был где-то очень далеко, на самом верху карты. И это ничего не означало. Тамошняя война была лишь эпизодом войны настоящей.
— Около Конкорда видели машину, сложенную, как зонтик,— сказал гарсон.
— Ерунда,— сказал Флавье.
Неужели его нельзя оставить в покое!
Бельгийцы! Почему не голландцы? Кретин! Он заставил себя приняться за мясо. Оно оказалось жестким, но Флавье не стал протестовать, потому что решил больше не жаловаться, замкнуться в своем несчастье и терзать себя. На десерт, тем не менее, выпил две рюмки коньяка, и мозг его постепенно начал освобождаться от сплошного тумана. Облокотившись на стол, он прикурил сигарету от золотой зажигалки, и у него появилось, ощущение, что вдыхаемый дым — это часть субстанции Мадлен. Он задерживал его в себе, смаковал. И ясно понимал теперь, что Мадлен ничего не совершила плохого перед замужеством. Такая гипотеза была ерундой. Гевиньи не женился бы на ней, не убедившись в этом. С другой стороны, состояние Мадлен таило загадки, ведь она многие годы была совершенно нормальной. Все произошло в начале февраля. Это ни о чем ему не говорило...
Флавье щелкнул зажигалкой и секунду 'смотрел на узкое пламя, прежде чем задуть его. Металл согрелся в его руке. Нет, причины у Мадлен не были обычными. Когда-нибудь к нему придет откровение, и он сможет разгадать тайну Лагерлаков. Он представил себя монахом, на коленях, в келье с земляным полом, но глядящим не на крест, а на портрет Мадлен. Л а тот, с письменного стола Гевиньи. Дьявол! И он не мог завладеть им! Он вышел, уже наступила ночь. Флавье не торопился вернуться домой. Он опасался телефонного звонка, извещающего об обнаружении трупа. Да и против сильной усталости, верного помощника в горе, он ничего не имел. Он брел наугад, плохо соображая, куда. Такое похоронное бодрствование он обязан продолжать до зари. Это был вопрос чести. Возможно, там, где теперь Мадлен, она нуждалась, чтобы о ней думал друг. Маленькая Эвридика!.. Слезы навернулись на его глаза... Флавье сел на скамейку и положил руку на спинку... Завтра он уйдет отсюда... Его голова склонилась, он закрыл глаза и, успев только подумать: «Подлец, ты спишь!» — заснул, как бродяга. Потом его разбудил холод, судорога свела ногу. Он застонал, поднялся и пошел,- хромая. Во рту у него пересохло. Отогрелся Флавье в только что открытом кафе. Радио передавало последние новости с полей войны. Он выпил две чашки кофе, съел что-то и вернулся к себе на метро.
Читать дальше
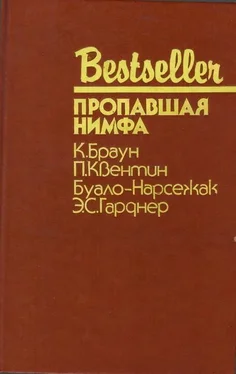

![Картер Браун - Том 16. Анонимный звонок [ Авт.сборник]](/books/99486/karter-braun-tom-16-anonimnyj-zvonok-avt-sborni-thumb.webp)

![Картер Браун - Настоящая партнерша [сборник]](/books/391500/karter-braun-nastoyachaya-partnersha-sbornik-thumb.webp)
![Картер Браун - Ядовитый плющ [сборник]](/books/391548/karter-braun-yadovityj-plyuch-sbornik-thumb.webp)
![Картер Браун - Любители тел [сборник]](/books/391584/karter-braun-lyubiteli-tel-sbornik-thumb.webp)

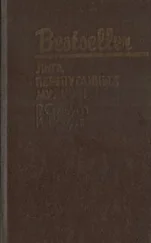

![Картер Браун - Дом колдовства [сборник]](/books/410248/karter-braun-dom-koldovstva-sbornik-thumb.webp)