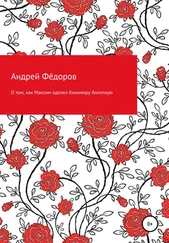— Наш батька строил-то, — говорила Гришкина мать, затыкая дырки тряпками, — ничего не берет!
Обломало ветки у пихты, росшей против Петькиного окна, и Петька, вернувшись домой, думал, что теперь лучше будет видно шоссе, но пихта все равно мешала, и он даже пожалел, что ночью она не сгорела. Белая пихта с гигантским горизонтальным суком, показывавшим на запад. Она вообще была живучей — южанка, белая пихта с бледно-серой, шелковистой корой, на которой так хотелось что-нибудь написать или вырезать и на которой, на горизонтальном суку, недавно вырезали свои имена Ваня, Димка и Сергей. Они только что ушли по шоссе на закат.
Ваня — спокойный, всегда от чего-то смущенно улыбавшийся толстяк, сделавший Петьке авиамодель на резиновом ходу и огромный «максим» с трещоткой, всегда даже с каким-то изумлением смотревший на свои круглые, с короткими пальцами, но удивительно ловкие руки и даривший «просто так» все, что эти руки делали чудесного… «Сергей, у которого велосипед», — катавший Петьку на раме (так жестко и больно прыгать на корнях, но так здорово, что все несется навстречу и все время хочется успеть отвернуть от дерева или пенька, потому что этот чудак за спиной все время кому-то кричит, машет и не смотрит на дорогу)… Димка — хитроватый насмешливый, но тот Димка, который однажды, когда малек Петька прополз сквозь поседевшую от злости крапиву и взорвал гранатой штаб «синих», посмотрел на раскисшую, в волдырях Петькину рожу, а потом сказал галдевшим и врущим «штабистам»:
— Не врет! Удостоверяю, как начальник штаба. Взорвал он меня!..
Закат теперь принял их всех в себя и разгорался и дрожал и бубнил, пожирая их короткие колонны.
Утром дед Мерзликин высунулся, хрипя и кашляя из окна:
— Ну?! Нету?!
И забинтованный боец, сидящий на обочине, усмехнулся и помотал головой, а дед закашлялся, заплевался и снова закрыл раму, утаскивая с подоконника двустволку.
Петька было договорился с матерью, что сегодня они вместе уйдут в партизанский отряд. Надо было только успеть, и Петька вглядывался в угол рощи и снова жалел, что не упала, не сгорела белая пихта.
— Тебя — младшим разведчиком? — спрашивала мать, улыбаясь одними губами и роняя узлы.
Но ушли они не в партизанский отряд, а вечером — по шоссе: Петька, его мать, Вовка, младшая Вовкина сестра и Вовкина мать. Белая пихта стояла на самом высоком месте в поселке, и уже за лесом Петька, оглядываясь, видел ее вершину-маковку, и, значит, мог видеть, где они все жили только что, а теперь почти бегом уходят от этого места.
Они шли долго, а потом, когда осталось только зарево и тени от него и сумрачные, пустые поля вокруг, Петька все-таки разглядел позади над зубчатой кромкой леса вершину пихты.
— Я больше не могу идти, — сказала Вовкина мать, — до Ивина мы все равно не дойдем. Надо ночевать.
Вовкина сестра семенила изо всех сил, но стала все останавливаться и поправлять сандалию, и рот у нее все время был открыт и под глазами стало черно и блестели красные от зарева слезы.
— Вон туда! Еще чуть-чуть! Оля!
В поле стояла скирда.
В прошлогодней, колкой соломе у Петьки еще хватило сил сделать себе мелкую нору, и он лег в нее лицом к шоссе и зареву. Все вокруг стало темно и исчезло только красной ниткой, спиралью блестело шоссе, исчезая тоже у зазубренной полоски леса, над которым стоял неподвижный уже, багровый свет.
Шоссе блестело, и Петьке стало казаться, что там, совсем далеко, на нем появилась черная точка. Он хотел сказать остальным, что их кто-то догоняет, что это могут быть немцы, но побоялся, что разбудит Олю, а она начнет реветь от страха, и понадеялся, что с шоссе их, может быть, не заметно. Черная точка все ползла по спирали шоссе, увеличивалась, и скоро стало понятно, что едет мотоциклист — одинокий всадник на красной дороге, наверное, военный, потому что был он, кажется, в сапогах и что-то сверкало на петлицах. Потом он поравнялся со скирдой, и Петька увидел, как бегут красные блики по хромированным частям машины, увидел белое лицо с широко раскрытыми, удивленными глазами и почти узнал его. Потом стало видно, что у всадника есть лицо, а затылка, головы нет совсем. Петьке все казалось, что он может вспомнить имя всадника, но до рассвета он так и не вспомнил.
Рассвет наступил, стало тепло и ясно, без тумана и дымки, и вскоре стало видно над лесами маковку пихты.
Они опять шли, но больше уж Петька не оглядывался, хоть и много лет потом помнил очень ясно свой сон только не мог вспомнить лица мертвого мотоциклиста.
Читать дальше



![Андрей Левин - Желтый дракон Цзяо [другая редакция]](/books/397016/andrej-levin-zheltyj-drakon-czyao-drugaya-redakciya-thumb.webp)