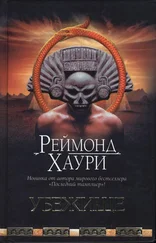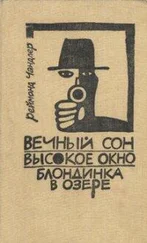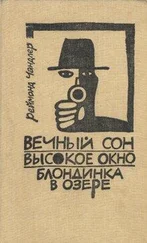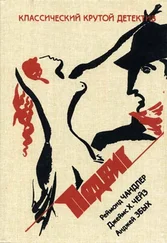В тот день я спустился вниз по лестнице, спотыкаясь не чаше, чем обычно, небрежно, по-английски, помахивая тросточкой (то и дело попадая ею между перил) и вдыхая чуть слышную кислую вонь обойного клея.
В доме было непривычно тихо, если не принимать в расчет доносившегося с кухни сердитого бормотания старушки Бесси, похоже, попавшей сюда прямиком с испанского галеона и доставшейся Крэндаллам в придачу к коттеджу.
Я заглянул в гостиную. Пусто. Через стеклянную дверь террасы вышел из дома. Миллисент сидела в плетеном кресле во «дворике». Просто сидела. Кажется, пришло время описать ее, и боюсь, что в этом, как и во всем остальном, объективность мне изменит.
Очень английская внешность и какая-то неанглийская хрупкость. Изысканность и утонченность дорогого китайского фарфора. Высокая, пожалуй, даже слишком, кому-то она могла показаться угловатой, но только не мне. Что действительно в ней поражало, так это нездешняя летучая грация движений. Роскошная бледно-золотистая копна волос — словно у сказочной принцессы, заточенной в неприступной башне. Старая нянька, сжимая гребень в морщинистых руках, расчесывает их в неверном свете свечей, а принцесса тихо дремлет перед зеркалом из полированного серебра, а проснувшись, видит в зеркале свои сны. Такими были волосы Миллисент Крэндалл. Мне довелось лишь раз к ним прикоснуться, но было поздно.
Красивы были и руки Миллисент, и, казалось, в отличие от своей владелицы они об этом догадывались и всегда представлялись под самым выигрышным углом: вот они касаются каминной полки, манжеты небрежно расстегнуты; а вот длинный рукав спадает так безупречно, что даже легкий изгиб не нарушает совершенства линии. Когда Миллисент разливала чай, руки неуловимыми движениями порхали над серебряным сервизом. Кажется, это было в Лондоне, в их узкой унылой гостиной. Снаружи моросило, из окон струился серый дождливый свет, и картины на стенах, какими бы красками ни писали их в действительности, казались такими же серыми. В такой день сияния лишилась бы даже картина Ван Гога — но только не волосы Миллисент.
Сегодня, однако, я взглянул на нее лишь мельком, взмахнул вишневой тросточкой и спросил:
— Думаю, бесполезно звать вас со мною на лодке?
Она слегка улыбнулась. Улыбка означала отказ.
— А где Эдвард? Играет в гольф?
Улыбка Миллисент стала насмешливой.
— Охотится на кроликов с каким-то егерем, познакомился в пабе. Проходу не стало от этих егерей — заполонили все окрестные рощи и поля. Тоже мне охота! Запускают в норы хорьков, вот кролики и выскакивают наружу.
— Да, я слыхал. А потом кровь пьют.
— Это мне впору пить кровь. Ступайте, но не опаздывайте к чаю.
— Должно быть, это и впрямь весело — просидеть здесь в одиночестве до самого вечера. В тихом уголке, слушая жужжание пчел, вдыхая аромат нектаринов. Спокойно дожидаться чаю — целая революция.
Она подняла на меня бледно-голубые английские глаза — не грустные или утомленные, просто слишком долго смотревшие в одну точку.
— Революция? О чем вы?
— Понятия не имею, — признался я честно. — Думал, вы оцените юмор. До вечера.
Неудивительно, что англичане считают нас, американцев, слегка туповатыми.
До озера я добрался в считанные минуты. По размерам английские озера не чета нашим, но здесь были крохотные островки, создававшие иллюзию пространства, а птицы с шумом сновали вокруг или надменно раскачивались на тонких стеблях камыша. Кое-где заросли подступали прямо к серой воде. Тут птицы не водились. Чья-то растрескавшаяся, но не дырявая лодчонка была привязана к бревну короткой веревкой, заскорузлой от времени и остатков краски. Я приставал к островкам. Местные на них не жили, но держали огороды. Иногда какой-нибудь старик, завидев чужака, бросал рыхлить землю и, приложив руку к глазам, настороженно всматривался в меня. Я выкрикивал вежливое, почти английское приветствие. Он не отвечал, ибо был глух и не собирался тратить силы впустую.
Сегодня я устал больше обычного, поэтому решил повернуть назад. Лодка была неповоротливой, как старый амбар, который унесло по разлившейся Миссисипи, а недлинные весла казались короче обычного. К вечеру на воде стало зябко. В просветах между буковыми листьями, откуда-то из иного мира, мелькали желтые проблески.
Я подтащил лодку к бревну за фалинь и распрямился, посасывая ушибленный палец.
Ни топота лошадиных копыт, ни позвякивания колец на конце мундштука я не слышал. То ли виной тому были прошлогодние листья, устилавшие берег, толи ее колдовская власть над благородным животным.
Читать дальше