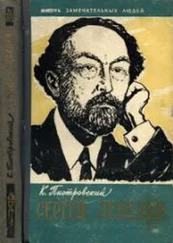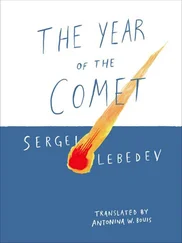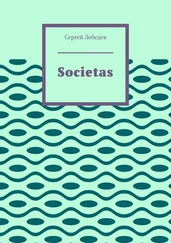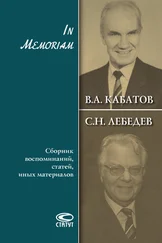Когда журналист попрощался и уехал, Калитин первым делом выпил таблетку от сердца.
Не только “крысиные тропы” поразили его.
В давней своей жизни он знал одного немецкого ученого, работавшего в концлагере. Дядя Игорь, Игорь Юрьевич Захарьевский, привез его из Германии после войны как трофей.
Официально этого немца как бы не существовало. Закрытый город был его тюрьмой. Но он был – зловещий знаток, проводивший когда-то такие испытания, каких не могли себе позволить даже они; заглянувший за край боли и смерти гораздо дальше – и готовый скрупулезно делиться опытом.
Калитин помнил, как Захарьевский в первый раз рассказал ему подноготную пленника. Калитин возмутился, хотя сам забрал уже не одну жизнь. Но этот-то немец, он пытал и морил наших солдат, может быть, и дед Калитина по матери, математик, артиллерист, сгинувший в плену, попал ему в руки.
Калитин был готов убить немца. Но уже через несколько дней заметил, что гнев поутих. Он по-прежнему, как ему казалось, ненавидел ученого арестанта, но был готов работать с ним.
Во-первых, этого хотел Захарьевский, поставивший в план разработки вещество, предыдущее поколение которого опробовал немец. Во-вторых, Калитин не мог не оценить выверенную научную методу пленника. И в третьих, он чувствовал, вопреки воспитанию, вопреки вдолбленному образу врага, странное, запретное сродство их внутренних устремлений – глубже национальностей, идеологий, вражды: пройти наикратчайшим путем к такому знанию, которое делает его творца незаменимым, не зависящим от обстоятельств. Дарует наибольшую защиту и власть. Немец, выходило, на собственном примере доказал, что это возможно.
Догадываясь о чувствах нового коллеги, немец не выпячивал себя, не навязывался, не говорил о прошлом. Просто работал: ровно и споро. И в конце концов Калитин ощутил, что этот подневольный одинокий старик ему ближе, чем генералы и партийные начальники, курирующие лабораторию. Те были своими по крови и гражданству, но чужими по сути своих натур, а немец чужим, насколько это вообще может быть, но своим. Одним из тех, кто прятался от государства внутри государства, ставя его себе на службу и расплачиваясь верной службой же, сливаясь с ним до такой степени, что уже не различить, кто кем управляет.
Именно тот немец, поняв, что младший коллега дозрел для следующего, еще более трудного знания, открыл ему глаза на тень, лежащую в тени: двойственное прошлое лаборатории, а точнее, самого места, Острова, где она располагалась. Немец уже бывал тут – до войны, до канцлерства Гитлера, когда здесь был секретный совместный советско-немецкий полигон.
Даже будучи уже искушен в темных тайнах Острова, Калитин сначала отказывался верить услышанному. И тогда немец описал все по памяти – где был аэродром, где деревянное здание лаборатории, бараки персонала, зверинец, караулка, как проходил забор; в какой части нынешнего, разросшегося, полигона еще можно найти старые окопы, воронки, оставшиеся после артиллерийских стрельб; отвел Калитина туда, пошарил палкой в жухлой траве, показал раскуроченное разрывом снарядное донце. Маркировка была немецкой. Видя, что Калитин все еще сомневается, немец отвел его в архив лаборатории. Там было особое отделение, где хранились вывезенные из разных стран Европы после войны документы, тонны бумаги из разных научных институтов, порой обожженной, покоробившейся от воды. Эти листы никто толком не разобрал. Там-то Клаус и открыл перед Калитиным неприметный армейский ящик. Это были отчеты о совместных испытаниях. В тридцать третьем немецкие ученые увезли их с собой в Германию. А в сорок пятом специальная команда НКГБ разыскала в руинах архива и привезла обратно.
Калитин читал, узнавая описываемые места, имена ученых с советской стороны. Мелькнула фамилия Захарьевский. Все было знакомо Калитину: особенности климата, проявлявшиеся в ходе экспериментов, научная логика.
А вот и фамилия Клауса упомянута.
Он ощутил, что больше не считает Клауса врагом.
Проводив журналиста, Калитин стал вспоминать Клауса. То знание, что немец открыл ему. Калитин размышлял о неслучайных тавтологиях истории, вызванных крайней редкостью по-настоящему укромных, годящихся, чтобы прятаться, чтобы хранить тайну, мест. Думал о себе, о том, как он выбрал дом – на старой чужой тропе. На ratline . А значит, тоже мог рассчитывать на ее покровительство, на невыветрившееся везение беглецов, раз уж те, кто прежде его охранял, теперь хотели его убить.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу